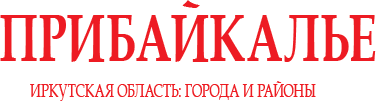Иркутская поэзия и иркутская проза (1970-1980-е)

Р. В. Филиппов

Б. Ф. Лапин

П. И. Реутский

М. Д. Сергеев


А. Кобенков

Ю. Аксаментов

Слева направо: В. Соколов, Г. Машкин, В. Стуков, Е. Суворов, Г. Богач, Р. Филиппов, А. Горбунов

Пушкинский праздник ЦПКиО. Слева направо: В. Козлов, Г. Гайда, Т. Суровцева, Е. Жилкина, Л. Бендер

А. Преловский

С. Кузнецова
Принято считать, что иркутская поэзия уступает в весомости иркутской прозе. Действительно, имён, достигших мировой известности, здесь назвать нельзя, однако на общероссийском фоне стихи наших земляков удерживают достойный уровень.
В 70-80-е гг. многие поэты выпускают свои сборники в Москве, что являлось признаком успеха. Это Р. Филиппов («Выбор», 1974), Ю. Аксаментов («Стихи, 1975), А. Горбунов («Чудница», 1975), Е. Жилкина («Пора листопада», 1976), М. Трофимов («Белый соболь», 1976), П. Реутский («Тропа золотоискателя», 1983), В. Скиф («Грибной дождь», 1983), Т. Суровцева («Северная песня», 1985), М. Сергеев («Вечерние птицы», 1987), А. Кобенков («По краям печали и земли», 1989) и др.
Характерно, что как и в прозе, в поэзии иркутян не стала главной тема великих сибирских строек. Их занимает мир души, судьба человека, картины природы.
Все более художественно осмысленными, по мнению критики, становятся с годами стихи Е. Жилкиной; выделяют два ее сборника — «Пора листопада» (М., 1976) и «После вьюги» (Ирк., 1980). Уважительно отзываются о творчестве Ин. Луговского, настаивая на том, что «поэт он не только областной».
К 70-м гг. достигает высоты творчество П. Реутского, пришедшего в литературу в конце 50-х, автора многих книг. Его стихи появляются в одном из московских сборников молодых рядом со стихами В. Федорова, Е. Евтушенко и других ныне известных поэтов. Горяч и безогляден лирический герой П. Реутского. Автобиографичность большинства произведений вовсе не означает замкнутости поэта на себе: напротив, мир его широко распахнут, в нем встают живые сибирские картины, сценки из разных времен, щедрых, как правило, на трудности, с участием многих лиц, чьи черты метко схвачены с натуры — жизнь на острие чувств.
Умереть не страшно,
Страшно не родиться.
Более спокоен или, лучше сказать, менее беспокоен для читателя М. Сергеев, хотя он делает все, чтобы отразить в своих стихах как можно больше переживаний, событий, откликнуться на каждую новую тему. Среди иркутских поэтов у него самое большое количество книг — взрослых и детских.
Мир от меня чего-то ждет,
А мне б — успеть!
А мне б — успеть!
Критика порой упрекала его за излишнее стремление к всеохватности, но есть стихи, которые признаны всеми, например «Баллада о тополях», посвященная одноклассникам, погибшим на полях Великой Отечественной, стихи о Байкале, песня об Иркутске («Любимый Иркутск — середина земли») и др.
Помимо поэтического таланта М. Сергеев был наделен даром популяризатора литературы, истории родного края, с неизменным успехом выступал перед читателями. Известность принесли книги очерков о декабристах, их женах, о Пушкине («Души прекрасные порывы». М., 1968; «Подвиг любви бескорыстной». М., 1976; «Перо поэта». Ирк., 1975 и др.). Как общественный деятель М. Сергеев был очень заметной фигурой в Иркутске — с конца 50-х и до 1997 г. — времени ухода из жизни. Он выступает инициатором многих литературных, издательских дел. В 1987 г. М. Сергеев становится председателем Иркутского фонда культуры; в начале 90-х всячески помогает становлению детского журнала «Сибирячок», а в середине 90-х благодаря его усилиям в Иркутск из Америки прибывает книжное собрание Л. Полевого, потомка писателей Полевых, и в 1997 г. открывается Гуманитарный центр-библиотека, носящий имя этой семьи.
Творчество Р. Филиппова развивалось по двум линиям: полного приятия жизни, обновляющейся в стройках Сибири, удовольствия от общения с друзьями, природой, и здесь многое шло от журналистского опыта и — исповедальности, порой безжалостной по отношению к себе и миру. С годами все больше побеждала вторая. Р. Филиппов — автор десятка поэтических сборников, в которых нетрудно проследить меняющееся сознание человека советской эпохи.
О если б Бог послал мне свыше
Уравновешенность души!..
Поэту-лирику больше всего удаются афористичные стихи с недосказанностью чувства, идет ли речь о любви, картине сибирского пейзажа, поэзии, в разговоре о которой нет и намека на самолюбование:
Спасибо, что не оставляла.
Поддерживала, как могла.
0 Ю. Аксаментове после выхода его московской книжки «Встречь солнца» в 1975 г. заговорили как о состоявшемся поэте. Тема родины звучала в его стихах с проникновенностью, свойственной лучшим представителям «тихой» лирики 60 — 70-х гг. И хотя годы творческой зрелости поэта продлились, к сожалению, лишь до середины 80-х, написанное им и сегодня удивляет точностью нравственных оценок:
Нас не настигнут времена,
Когда наскучит человечеству
Дым от костров и дым отечества,
И песня станет не нужна.
Отдам ей все, что накоплю.
Я в сумасшедшем визге джазовом
Спокойным голосом рассказываю,
Что песню русскую люблю.
К точности интонации, правдивости чувства всегда стремился С. Иоффе. В критике его называют поэтом-собеседником — чутким и зорким; он добр по отношению к другим и строг к себе: «Неискренности, пафоса боюсь. Боюсь сказать бесчувственную фразу»— такое признание вызывает доверие читателя.
Сказочный, таинственный образ Сибири создает в своих стихах М. Трофимов. Таежный мир, который обычно называют суровым, ласково очеловечен поэтом. У него «елочки в девичьих чёлочках», «по-человечьи» вздыхает медведь-шатун — «ему хочется заплакать», «тундра медведицей белою отогреет на груди под лапою», «в зимовушке» ждёт любимая, и даже бессонница смотрит «оленьими глазами». Такое видение привело к детским стихам: «Звонышко» (Ирк., 1978); «Лесная азбука» (Ирк., 1994) и др. Критика особенно выделяет поэму «Мачеха» — в ней в сказочном восприятии мальчиком окружающего обнажено одиночество детской души, трудности военного времени.
70 — 80-е гг. дали Иркутску и Сибири имя такого поэта, как А. Горбунов. Первозданность сибирской природы, чистота рек, богатство тайги вошли в его стихи естественно и гармонично.
Льются звоны золотые,
Золотые льются звоны,
Словно иволги ручные,
Опускаясь на ладони.
Лирический герой говорит голосом своего народа — русского, сибирского, и смотрит на мир глазами хлебопашца и охотника,деревенского жителя. Чистое слово выпевается в традициях Кольцова, Есенина. «Поэт последней деревни» — ленской — Горбунов составил в художественных образах и публицистических откровениях ее историю, переживая происходящее на селе как личную трагедию:
Одичала Сибирь полевая,
В деревеньках погасли огни...
В стихах о любви — застенчивая, щемящая нежность: «Твои глаза — пронзительная осень. Сияй, сияй, прощальный свет любви...»
Не сразу, но, верится, навсегда входит в эти годы в иркутскую поэзию, и не только в иркутскую, — в это тоже верится — Т. Суровцева. Она принесла в нее цветы сопок Забайкалья, где прошло детство, свой образ Иркутска, где складывалась судьба,— «ты моя городская деревня», создала характер лирической героини, не живущей «за каменной стеной», наделенной чувством родины и чувством времени.
Стих, близкий по своему строю классическому, так и звенит льдинками из снегов Сибири и при кажущейся хрупкости прочен.
Здесь поутру такое вспыхнет солнце
На нежно-голубых изломах льда!
И в искупленье ужаса бессонниц
Средь бела дня мне явится звезда.
Обретает своего читателя — и не в одном Иркутске — A. Кобенков умением опоэтизировать предметы повседневности. Мягкой усмешкой окрашены его стихи о людях, которые ценят сердечность в отношениях, ищут уюта в беспокойных буднях и в то же время способны мыслить отвлеченно:
Чем дольше жизнь,
тем логике трудней...
Уверенно заявляет о себе и B. Козлов. В стихах, с заметным стремлением к краткости и емкости, он выражает мироощущение представителя послевоенного поколения, запечатлев детали трудных лет («Есть у меня на свете брат». Ирк., 1979). Поэту близки темы патриотизма — «О Родине думай чаще», состояния души — «Распахнута у человека — как мироздание — душа».
Поэтическое творчество совмещается с издательской работой, которая подчас теснит стихи: В. Козлов последние 20 лет, все годы перестроечной лихорадки,— составитель и главный редактор журнала «Сибирь».
Многие темы сибирской жизни, пейзажные зарисовки находят свое место в стихах B. Соколова, с особым увлечением работающего в жанре поэмы; живо откликается на события внешнего мира звучными рифмами В. Алексеев; не только стихами, но и литературными пародиями обретает известность В. Скиф; успешно дебютирует Г. Вихров, начинает со стихов, но переходит на прозу В. Захарова.
В Восточно-Сибирском издательстве в эти годы в серии «Сибирская лира» вместе с книгами иркутян выходят сборники известных поэтов, судьбой и творчеством связанных с Приангарьем: C. Кузнецовой, Ст. Куняева, Евг. Евтушенко, Ю. Левитанского, А. Жигулина, А. Преловского.
Новые имена в прозе 80-х — это прежде всего продолжатели «деревенской» традиции: В. Сидоренко и А. Байбородин. В. Сидоренко в повестях и рассказах отличает «высокая температура» переживания, ее волнуют проявления душевного неустройства человека, утратившего в себе природное начало, судьба женщины и распад семейных отношений на фоне современных социально-нравственных конфликтов («Завтра праздник». М., 1984). Главная тема А. Байбородина — жизнь забайкальской деревни («Поздний сын». М., 1988), описанная языком, близким народной речевой стихии. В других направлениях идут: В. Хайрюзов — герои этого прозаика — лётчики, работающие в суровых сибирских просторах («Опекун». М., 1980, «Отцовский штурвал». М., 1984 и др.); В. Захарова — в романе «Семейные неприятности» (Ирк., 1983) она остро ставит проблему воспитания детей в городской семье, впервые в Иркутске затрагивает проблему наркомании; А. Латкин — для его произведений характерна слитность человека с северной природой («Осенний перевал». М., 1984; «Глиняные рисунки». Ирк., 1986).
В эти же годы приходят в прозу более старшие по возрасту— М. Просекин, сумевший правдиво описать жизнь в сибирских поселках и городках («Встречный пал». Ирк., 1982; «Старый друг». М., 1986); Н. Матханова — успех автору принесла детская повесть «Чтобы в юрте горел огонь», сразу изданная в Москве (1981), другим ее вещам свойственна социально-нравственная тематика («Взрослые игры». М., 1988); неспешно входит в литературу В. Нефедьев, обративший в повестях свой взгляд художника на Байкал («Посольская сторона». Ирк., 1987); привлекает читательское внимание романом «Ингода» (Ирк., 1984) — о забайкальской деревне послереволюционных лет — Л. Щедрова. В коллективных сборниках в Иркутске и Москве печатает свою повесть «У порога» (1987) И. Комлев — о трагедии, разыгравшейся в голодном военном тылу. Отдельные книги прозаика «Ковыль» (Ирк., 1990) и др. появятся уже в 90-е гг.
Валентина Семенова
ВМЕСТЕ С БУРЯМИ ВЕКА
Краткий обзор имён и книг к 75-летию
Иркутской писательской организации