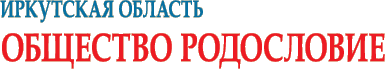Земля и корни (Н.Н. Михайлова)
Детство. Из всей прожитой моей жизни оно вспоминается наиболее ярко и отчетливо. Хорошо помнятся люди, меня окружавшие, дом, где я росла, многие события, мои детские чувства и ощущения, даже звуки и запахи, наполнявшие тогда мир.
На эти воспоминания душа откликается теплотой и радостью. И так не хочется, чтобы все это когда-нибудь ушло навсегда. Поэтому и решилась писать. Может быть кто-нибудь из моих близких когда-нибудь прочтет это «писание». Хочется, чтобы у читающего пробудились интерес и добрые чувства к своим предкам.
Глава 10. Наше жилье и быт
Наша многочисленная семья в годы моего раннего детства занимала весь первый этаж шестикомнатного дома. В это время она состояла из дедушки, бабушки, старшей их дочери Анны (она после ареста мужа вернулась из Москвы в родительский дом), моих папы и мамы, моего брата Володи, меня, младшего сына деда и бабушки Владимира и его жены Тамары. Девять человек размещались в шести комнатах. Жили все под бабушкиным «главенством» мирно и дружно. Я уже подробно описала кабинет деда, где он вел частный прием больных. В квадратной прихожей, напротив кабинета деда была дверь в маленькую узкую комнату с одним окном, выходившим на улицу. Здесь жили дядя Володя с женой. Из прихожей был и вход в самую большую, солнечную и теплую комнату с четырьмя окнами (два – на улицу и два – во двор). В ней размещались мои родители и я. У стены между печью и уличным окном стояла моя детская кровать. Здесь были комод, этажерка с книгами, небольшой письменный стол с белой гипсовой головой Наполеона в треуголке. Помню высокий с маленькой круглой столешницей столик на трех гнутых ножках, на нем стоял цветок с длинными узкими листьями, он иногда цвел красивыми большими розовыми лилиями. В этой комнате стояло пианино. Была еще родительская кровать. Между окон у стен стояли венские стулья. Вся мебель была черного цвета.
Я помню, что до войны в новый год в центре этой комнаты всегда ставилась большая елка. У нас было много елочных игрушек, некоторые живы и до сегодняшнего дня. В новогодний вечер зажигались елочные свечи. Пахло хвоей, горящими свечами, мандаринами. Люди моего поколения все знают и помнят этот прекрасный запах счастливого детства. Утром на следующий день мы с братом обязательно находили под елкой какие-нибудь подарки, в основном, игрушки.
Из нашей комнаты была дверь в проходную комнату, которая служила гостиной и столовой. В нее выходила еще одна дверь – из кабинета доктора. Заканчивалась эта комната коридором, ведшим к кухне. А из коридора были двери в две противоположные стороны в еще две небольшие квадратные комнаты. В одной из них была спальня деда и бабушки, а во второй жил Ляляка (а до этого там обитала тетя Оля – сестра дедушки, теперь уже скончавшаяся).
В столовой стояла очень красивая мебель – бабушкино приданое. Выходя замуж, она на оставленные ей родителями деньги выписала эту мебель из Москвы по модному журналу. Мебель состояла из большого буфета, обеденного стола, двух кресел и шести стульев. В нее же входил и диван, стоявший в дедушкином кабинете. Все это было массивное, тяжелое, сделанное из дерева дуба темного коричневого цвета. Буфет был двухэтажный. Нижняя часть его состояла из трех шкафов: центрального широкого, с полками для посуды, и двух боковых поуже, с полками и выдвигающимися ящиками. Дверцы шкафов были украшены резными завитками, листьями и лепестками цветов. На нижней части буфета помещалась на ножках верхняя, также состоящая из трех отделений. Два боковых шкафа были узкими и высокими, украшенными цветными стеклянными витражами. Между ними находился двухстворчатый шкафчик, также с красивой деревянной резьбой на дверцах. Все ручки на дверцах и ящиках блестели медью. У буфета была большая выдвижная доска, на которую ставились готовые, подаваемые к обеду, кушанья; можно было резать хлеб, пирог. За одним из витражей на полках стояли хрустальные и серебряные инкрустированные графинчики, рюмки и стопки. В открытых коробках на бархате хранились китайские чайные чашки из тончайшего, почти прозрачного, фарфора. А если открыть вторую дверцу с витражом, оттуда чудесно пахло, там бабушка хранила различные специи и пряности. В выдвижных ящиках лежали серебряные ложки и вилки, всякие щипцы, щипчики и лопаточки. Помню, были серебряные кольца для салфеток и хрустальные подставки для сервирования стола ножами и вилками. А в большом нижнем шкафу буфета на полках располагались различные фарфоровые блюда: длинное, не меньше метра, - для цельной рыбы отварной или запеченной; еще одно длинное, поменьше – для жареного поросенка. Было большое круглое блюдо с овальной приподнятой серединой – для гуся или курицы с гарниром. Было даже блюдо с двойным дном, в которое можно было заливать горячую воду, чтобы кушанье не остывало.
Квадратный большой стол на толстых круглых фигурных ножках мог раздвигаться, свободно вмещая более тридцати человек.
Кресла и стулья были с мягкими пружинными сиденьями, обтянутыми коричневой кожей, прибитой медными узорчатыми гвоздиками. Высокие спинки и подлокотники заканчивались деревянной резьбой.
Бабушка очень любила эту красивую мебель и гордилась ею. И правда, я больше ни у кого никогда не видела такой мебели. Один только раз, уже взрослой, в каком-то кинофильме из старой жизни я увидела такой же, как наш, буфет.
В спальне дедушки и бабушки с окном, выходящим в переулок, прямо на пожарную лестницу, стояли две железные узкие панцирные кровати, шкаф с очень хорошим зеркалом (оно и сейчас висит в прихожей у моей сестры), шифоньер и бабушкин дамский изящный столик зеленого сукна. На нем был укреплен маленький шкафчик с дверцей из зеленого рифленого стекла, который служил бабушкиным тайничком. Снизу у столика были подвешены выдвижные ящички. Все ящички могли запираться красивыми ключиками. Этот бабушкин столик, правда уже лишенный некоторых своих частей, и сейчас стоит у ее правнучки Ларисы, он ей очень нравится, и она им дорожит.
Когда родился мой брат (он был первым внуком в нашей семье), бабушка, безумно его любя, забрала его спать в свою комнату. Она отдала ему свою кровать, а для нее между сдвинутыми кроватями были поставлены табуреты, на которых она самоотверженно спала долгие годы, до смерти деда.
Последняя комната, рядом с кухней, была небольшая, в ней стояла старая, еще тети-Олина пружинная кровать с деревянными круглыми головками, одно из кресел, письменный стол и небольшой красного дерева шкаф. Еще один книжный шкаф стоял в коридоре, ведущем из столовой в кухню. Книг в доме было не так много, они умещались в двух книжных шкафах и на этажерке. Но книги были очень хорошие и хорошо изданные, много было замечательных детских.
Стены и потолки во всех комнатах были крашены масляной краской и расписаны орнаментом. Я помню, что кабинет деда был голубой, с букетами синих цветов по углам; родительская комната – палевая, с цветочным бордюром под потолком; столовая – под цвет дерева, и ее стены были разрисованы так, как будто были сделаны из досок.
У дедушки в кабинете под потолком был великолепный голубой с ромашками стеклянный абажур. А в столовой с потолка свисала медная люстра с белым круглым стеклянным абажуром. Вся проводка была выполнена прямо по стенам крученым проводом, который крепился белыми маленькими фарфоровыми изоляторами – «роликами».
Как и во всех домах в то время, у нас на стенке в столовой висела черная картонная тарелка громкоговорителя. Радио в нашей жизни играло очень большую роль (телевидения тогда еще и не знали). Оно несло в дом настоящую культуру: было много театра, классической литературы, музыки. Передавались спектакли лучших театров, целые оперы, оперетты. Дикторы говорили правильным русским языком. Мы многому научились благодаря радио. Особенное место радио занимало во время войны. Все слушали последние известия, громкоговоритель никогда не выключался. Из него все узнали и о начале войны, и о победе.
Полы в нашем доме были крыты старым линолеумом, коричневым со стершимся в центре рисунком. А в столовой линолеум был черно-белыми шашками. В местах, где были черные квадраты, он почему-то был менее прочным и во многих местах проносился.
Высокие и узкие окна имели две рамы – наружную, с открывающимися створками, и внутреннюю, цельную. Внутренняя рама выставлялась весной и вставлялась осенью. На лето оставлялась только одна, наружная, рама. Выставление и вставление оконных рам было целым событием в бытовом укладе. Оно не только требовало много работы ( в доме было 14 окон), но и меняло обстановку в доме. Весной, когда рамы вынуты, унесены в кладовые, и отмыта зимняя сажа, в комнатах становилось светлее, свежее и радостнее. Это событие даже отмечено поэтом:
«Весна. Выставляется первая рама,
И в комнату шум ворвался.
Слышнее и благовест ближнего храма,
И говор народа, и шум колеса…»
И правда, весной особенно был слышен цокот лошадиных копыт по булыжной мостовой (этот звук я очень люблю, он тоже – из моего детства). А осенью, холодной и дождливой, когда вставлены рамы, в доме – опять уютнее, теплее. Между рамами бабушка любила класть сухой лесной мох, который к тому времени в большом количестве продавался на базаре. Сверху для красоты она посыпала его цветными осенними листьями. Мох служил для впитывания зимой влаги и сажи. Щели в рамах затыкались газетой и заклеивались с помощью клейстера полосками бумаги. В доме не были приняты шторы на окнах, бабушка их не любила. Во всех комнатах она повесила коротенькие занавески, кружевные или из тонкого полотна с мережкой, выполненной ее руками. На день они обязательно раздвигались. Бабушка любила, чтобы из окон была видна улица и двор. На подоконниках в горшках стояли цветы, больше всех бабушка любила мелкую розовую бегонию, оранжевый амариллис, были и алоэ и аспарагус.
Бабушка не терпела закрытые двери в комнаты, и они все всегда были открыты; даже, ложась спать, она оставляла приоткрытой дверь в спальню. Двери в доме были двухстворчатые, высокие и узкие, крашеные белой краской, с медными красивыми ручками.
В комнатах были две печи, поставленные так, что они обогревали своими стенками по две и три комнаты. В одной из комнат печи совсем не было, и она должна была обогреваться общим теплом жилья. Конечно зимой в ней бывало довольно холодно. Печи топились дровами. В каждую закладывалась большая охапка длинных, почти в метр, поленьев. Между поленьями надо было засунуть сухие лучины, поджечь их зажженной бумагой, и печка начинала весело гудеть. Но прежде необходимо было открыть трубу. Для этого надо было по специальной лесенке забраться под самый потолок, открыть дверцу в стенке печи и сдвинуть тяжелую с небольшой ручкой заслонку. Она всегда была в саже, поэтому брать ее нужно было специальной рукавицей. Рукавица в бабушкиной спальне, я помню, лежала всегда на верху стоявшего рядом зеркального шкафа.
По мере сгорания дрова надо было поправлять длинной тяжелой железной на деревянной ручке клюкой. Красные горячие угли разгребались в печи к углам и дальней стенке. Остатки недогоревших дров – головешки, обязательно выгребались на совок и уносились в кухню в плиту, если она топилась, или в ведро с водой. Если оставить головешки в печи, то можно было «угореть» - отравиться угарным газом. Затем надо было вновь влезть на лестницу, чтобы закрыть заслонку. Печи хорошо нагревались, но топить их нужно было каждый день.
Коридор из столовой вел к выходу на кухню. Часть дома, где располагалась кухня, видимо, пристраивалась к основной, жилой, позже, в не лучшие для владельца времена.. Крыша здесь была ниже основной, стены тоньше, три окна – небольшие, квадратные, да еще и неодинакового размера. Кухня была очень большая. Выход в нее из комнат закрывала толстая деревянная дверь, выкрашенная зеленой краской. Перед ней был большой порог, от времени выношенный в середине и имевший дугообразную форму.
Через холодные сени в кухню был черный ход со двора с небольшим крылечком с навесом. Рядом было крыльцо входа на второй этаж. Оно состояло из трех ступеней, отгороженных с боков широкими досками, на которых было удобно сидеть. Это крыльцо - любимое место «тихих» игр наших дворовых ребят. По фамилии жильцов второго этажа оно называлось «ласточкино».
Входная в наши сени дверь была тоненькая и почти никогда не закрывалась, только тогда, когда все уходили из дома. А дверь из сеней в кухню была массивной, тяжелой, обитой ватой и сукном. Она изнутри могла закрываться на крючок. Крючок и петля для него на двери были большими и тяжелыми, из кованого железа.
Из кухни был вход в маленькую уборную. Большое место в кухне занимала настоящая русская печь, с лежанкой и печурками. Около стояли длинная клюка – мешать и загребать угли, деревянная лопата – садить и вынимать из печи листы с выпечкой. Бабушка наша была мастерица стряпать пироги и булки. Особенно был популярен рыбный пирог, с омулем, «харюзом». Любили пирог с дробленой сушеной черемухой. Когда топилась русская печь и была стряпня, в доме стоял необыкновенно вкусный, праздничный дух, исходящий из печи.
К русской печи была пристроена плита, топившаяся углем, для ежедневной готовки. Этот уголь и золу из плиты надо было таскать каждый день большими тяжелыми ведрами. Особенностью и удобством нашей плиты был большой вмазанный медный котел. В него заливалось несколько ведер воды. Закрывался он блестящей, если ее начистить, медной крышкой. Из котла выходил большой сливной кран, которым мы никогда не пользовались, наверное, он был испорчен. Воду из котла черпали железным кованым ковшом, открыв со звоном крышку. Когда плита топилась, вода в котле нагревалась, иногда даже кипела. Потом в доме долго был запас горячей воды, это было очень удобно.
Для кипячения воды было еще несколько самоваров: два больших ведерных – медный и никелированный, и маленький – на два литра, тоже никелированный. Никелированные самовары были высокие и узкие. А медный – круглый, пузатый. Медный самовар считался кухонным, а один из никелированных подавался к чайному столу. Самовары засыпались древесным углем, а для растопки специальным большим кухонным ножом от сухого полена щипалась лучина. Пучок тонких лучинок поджигался и опускался на угли. На самовар надевалась железная труба, которая выводилась в специально для нее предназначенное круглое отверстие в стенке русской печи. Для раздувания углей вместо трубы на самовар надевался кожаный рифленый рукав.
В кухне было большое и глубокое подполье. Оно закрывалось тяжелой прорезанной в полу крышкой с железным кольцом. В подполье были полки, заставленные различным старьем из мебели и посуды. Был большой ларь, в который можно было засыпать до 20 мешков картошки, и она до весны хорошо хранилась. Летом молоко в подполье хранилось недолго (по сравнению с нынешним холодильником), не больше дня. Опускали в подполье на недолгое хранение суп и другие кушанья, свежую, купленную на базаре рыбу, мясо, зелень.
Какое-то время часть кухни была отгорожена под комнатку для прислуги. Вскорости ее за ненадобностью сломали.
Кухня была белена известью. Пол, состоящий из широких и толстых деревянных плах, был некрашеным. Его редко мыли и скоблили ножом . Потом пол покрывали большим деревенским домотканым половиком. Одно время, я помню, бабушка закрывала вымытый пол «керенками». Это были денежные купюры, выпущенные когда-то временным правительством. Их было много, потому что они ничего не стоили из-за инфляции. Их потом отменили, но бабушка их хранила. Позже она нашла оставшимся деньгам применение. Купюры были из плотной бумаги и большого размера. Они долго и хорошо защищали пол от грязи. Еще бабушка любила у входного порога настилать на полу березовые ветки. Для этого на базаре покупалась березовая метла. Развязывалась, и ветки раскидывались на полу у входа с улицы. Тогда в кухне царил великолепный дух березы. Зимой, придя со снежной улицы, об эти ветки удобно было «обивать» валенки.
Для подметания полов в доме покупались на базаре голики из тонких березовых веток. А бабушке больше всего нравилось сосновое помело, в виде букета духлых сосновых веток, которое для удобства насаживалось на длинную палку.
В доме было две больших холодных кладовых. В одну, находящуюся под лестницей на второй этаж, вход был из сеней. В ней обычно на лето составлялись вынутые внутренние оконные рамы. Во вторую кладовку вход был прямо из кухни. Ее дверь, такая же большая и тяжелая, как и входная, тоже закрывалась на кованый железный крюк. Этой кладовой больше пользовались зимой. Обычно там стояла объемистая кадка с квашеной капустой. Там же морозили на железных листах пельмени. И вообще она служила лучше всякого холодильника.
Кухня, как ее ни топили, была холодная. Зато летом там всегда стояла божественная прохлада.
Воду брали домой с водокачки. Она находилась в конце нашей улицы, напротив дома Трубецких. Водокачка представляла собой деревянный небольшой, довольно высокий домик, из которого были выведены две трубы: одна высоко на верху домика, от нее спускалась вниз подвешенная жестяная труба, через которую заливалась вода в бочки водовозов; а вторая, для наполнения ведер, выходила низко над землей, и под ней был крюк, на который навешивалось ведро. Внутри работала женщина, которая отпускала воду. Чтобы набрать ведро воды, надо было положить деньги – одну копейку, в специальный маленький ящичек, выдвигающийся через окно. Когда работница удвигала ящичек с копейкой и открывала затвор трубы, вода начинала литься в ведро. Женщина через окно следила, как наполняется ведро, чтобы во-время выключить воду.
Два раза в день летом и зимой к нам во двор приезжал водовоз. Его лошадка, которую мы все любили гладить по мягкому теплому носу и угощали, когда было чем, летом была впряжена в телегу, а зимой – в сани. На них укреплялась в горизонтальном положении большая деревянная бочка с водой. В бочке было отверстие, закрывавшееся изнутри, под ним – крюк для ведра. Водовозу тоже надо было заплатить по одной копейке за каждое ведро воды. Он рычагом открывал затвор, и вода сильной серебряной струей звонко лилась в ведро. По мере убывания воды водовоз поворачивал бочку вокруг оси, чтобы сливное отверстие опускалось. Из нижней части бочки вода лилась уже не так весело. Когда водовоз въезжал во двор, мы смотрели, где находится отверстие. Если высоко, значит воды в бочке много, а если низко, то ее могло и не хватить на всех. Часто ходили за водой на водокачку. Немногие во дворе носили ее на коромысле. Это надо было уметь – нести на коромысле ведра, они раскачивались, и вода расплескивалась. Надо было двигаться особой походкой. У нас дома все таскали ведра в руках. Эту работу сначала выполняли взрослые, а потом это вошло в нашу, детей, обязанность. Мы с сестрой с 7 – 8 лет начинали с половины ведра, за дорогу до дому несколько раз сменив руку, передавленную тонкой ручкой ведра. Зимой было легче: воду возили на санях. У нас были большущие сани на кованых загнутых вверх спереди полозьях. На полозьях была укреплена широкая толстая доска. Но зимой эти тяжелые санки легко скользили по накатанному снегу. На них ставился ушат на три ведра. Мы с сестрой быстро и весело довозили его до дому. Одна из нас тянула впереди за веревку, а вторая, поставив ногу на санки, подталкивала сзади. Сзади можно было иногда и прокатиться. А вносить ушат в дом помогал брат. В отверстия в ушате вставлялась металлическая палка. Брат брался за один ее конец, а мы с сестрой – за второй. И так втаскивали ушат в кухню. Здесь у двери стояла бочка ведер на десять, в нее и сливался привезенный ушат. В бочке всегда плавал плоский металлический кованый ковш, загнутой ручкой он цеплялся за край бочки. Из него было так хорошо пить, зачерпнув из бочки морозную, иногда с тонкими льдинками, ароматную, вкусную , казалось, сладкую, только что привезенную воду.
Для умывания было два умывальника. У них была мраморная доска с полочками для мыла и щеток. Через нее из расположенного сзади металлического бака выходил симпатичный краник с двумя концами, загнутыми один вниз, другой – вверх. Его нужно было повернуть, чтобы вода потекла. Повернешь одним концом, вода бежит вниз, повернешь другим, она бьет небольшим фонтанчиком вверх. Вода через раковину сливалась в подставляемое в специальный закрывающийся шкафчик ведро. Такой умывальник нарисован в детской книжке «Мойдодыр». Один из умывальников стоял в кухне, второй – в прихожей, где мыл руки во время приема больных дедушка. (Во время войны оба умывальника пришлось продать. Какое-то время мы обходились, набирая из ковша воды в рот и поливая себе на руки. Позже был приобретен рукомойник «с пипкой»).
Вечерами и по выходным дням вся семья собиралась за обеденным столом. У каждого, включая детей, было свое постоянное место. Дети непременно усаживались за стол вместе со взрослыми, чтобы учиться хорошим манерам во время еды. Обед обычно состоял из трех блюд. Были разнообразные супы: грибной, с фрикадельками, куриная лапша. Все очень любили бабушкин летний суп из только что появившейся зелени. Бабушка клала в него все, включая зеленый горошек. На второе специально что-то готовилось, часто ели просто мясо из супа. Все очень любили свежую рыбу, которая чаще готовилась отварной. Бабушка часто жарила мозги. На сладкое я почему-то больше всего запомнила кисель, обычно облепиховый, брусничный. Его не пили из стаканов, как принято сейчас, а ели из суповых тарелок ложками, часто с белым хлебом. Пить чай после обеда, как это делают сейчас почти все, у нас не было принято. Чай пили отдельно. Для этого специально сервировался стол с самоваром и чашками. Чашки всегда подавались на блюдцах. Бабушка говорила, что снимать чашку с блюдца и ставить на стол неприлично. Для сладкого подавались десертные тарелочки. Все эти церемонии, конечно, соблюдались в хорошие времена. Во время войны, когда и посуды не стало, пили и ели, уж как придется, было бы что. Но и сейчас я люблю чай только из чашки с блюдцем, с заварным чайничком.
По большим праздникам готовили домашнее мороженое. Это было целым событием. Для изготовления мороженого был специальный агрегат: деревянное ведро, в которое вставлялся оцинкованный цилиндрический бачок. В центре его на оси были насажены деревянные лопасти, они вращались с помощью ручки, выведенной сбоку ведра. Бабушка или мама варили в кухне на плите молоко, смешанное с яйцами, сливками, сахаром, ванилью. А мы в это время шли на водокачку и набирали там куски чистого льда. Когда то, что варилось, было готово и остужено, оно заливалось в бачок. А между ним и стенками ведра накладывался колотый лед. Чтобы он дольше не таял, его приходилось посыпать крупной солью. Но он все-таки таял, и его все время добавляли. Вода от растаявшего льда сливалась в маленькое отверстие внизу ведра, для этого оно ставилось в большой таз. Самый главный процесс – «скручивание» мороженого. «Крутить» мороженое нужно было долго, по нескольку часов. Поочередно вращать ручку ведра входило в наши, детей, обязанности. Происходил этот процесс в подполье. Готовность мороженого определяла бабушка. Сняв крышку с бачка, она протыкала мороженое деревянной палочкой, потом ложкой снимала пробу. Если выявлялась готовность, тут же пробу начинали снимать и мы. Мороженое получалось изумительно вкусное, жирное, желтое, с ванильным запахом. Нам разрешалось съедать все приготовленное мороженое, весь бачок (объем его был литра два). И мы наедались его так, что потом шли к печке и, прижавшись к ней, грели животы. Скорее, это была часть чудесного «мороженного» обряда.
Мороженое продавалось и на базаре, и на улице. Оно развозилось вручную в маленьких с крышей от дождя и солнца кибиточках. Мороженщицы набирали его из бака лопаточкой и закладывали в специальную кубическую формочку. На дне ее вначале укладывалась вафля. И сверху наложенного мороженого накладывалась вторая вафля. Потом мороженое движком выталкивалось из формы. Есть его нужно было, держа за вафли пальцами. Мы старались растянуть удовольствие и понемножку вылизывали мороженое между вафлями. Иногда оно таяло и текло по рукам. Продавалось сливочное, молочное, шоколадное мороженое. Было ярко-розовое фруктовое. Оно было самое дешевое.
В нашем доме было еще одно интересное хозяйственное приспособление – кололка для сахара. Сахар-рафинад тогда продавался большими бесформенными кусками. И чтобы употреблять, его обязательно нужно было колоть на мелкие кусочки. Кололка представляла собой два длинных острых металлических резака, соединенных между собой одним концом. Один резак был укреплен на деревянной доске, которая служила еще и для того, чтобы на нее падал колотый сахар. Второй резак с деревянной ручкой на конце свободно поднимался под углом к первому. Между ними закладывался кусок сахара. Чтобы он раскололся, нужно было ударить рукой по деревянной ручке. Бабушка рассказывала, что раньше так можно было расколоть и сахарную «голову» в виде конусообразного большого слитка – в таком виде в бабушкиной молодости продавался сахар. Эта кололка жила у нас долго, а потом она стояла в областном краеведческом музее.
Еще из интересных предметов были утюги. У нас было два тяжелых утюга из цельного чугуна. Они для нагрева ставились на топящуюся плиту. Ручка утюга была тоже чугунная, и ее надо было, чтобы не обжечься, прихватывать тряпкой или толстой рукавицей. Утюг при глажении быстро остывал, но в это время был нагрет на плите уже второй. Был и еще утюг, работающий по принципу самовара. Он был большущий, полый внутри, с откидывающейся крышкой. В него закладывались горячие древесные угли. Внизу были отверстия-поддувала. Чтобы нагреть утюг, его надо было «раздувать», держа в руке и размахивая им из стороны в сторону. Я помню еще и электрический утюг. Он был большой и тяжелый. К сети он подключался не с помощью вилки и розетки, а как лампочка. Провод утюга заканчивался цоколем, который ввинчивался в патрон, вместо лампочки. Розетка в доме вообще была одна – для дедушкиной настольной лампы. Во время войны электроутюг уже не действовал, и мы пользовались старинными утюгами.
Продукты мы покупали на базаре. Хлеб, крупы, сахар – главным образом в продовольственном магазине на углу улиц Тимирязева и Декабрьских Событий. Посылая кого-нибудь в магазин, бабушка говорила: «Пойдешь в магазин на Ланинской».
Во двор часто приходили люди с различными услугами. Молочница приносила молоко. Его носили обычно в четырех четвертях. Для этого был сделан холщевый мешок, перекидывающийся через плечо так, что две четверти помещались в раздельных карманах мешка спереди, а две – сзади. Перевернув четверть дном вверх, через воронку молочница разливала молоко в подставляемые жильцами бидоны, кастрюльки, банки. Молоко было желтое, крупно пенилось. А пустая четверть оставалась совсем не прозрачной от жирного молока на стекле.
Иногда во дворе раздавалось: «Точить ножи, ножницы, бритвы править». Или «Лудить, паять, клепать!» Со своим станком на плече являлся точильщик. Он устанавливал станок среди двора, ставил ногу на качающуюся педаль, как у швейной машины, и начинал вращаться наждачный круг, от соприкосновения с которым из-под ножей и ножниц вырывались полосы ярких искр. Опасные бритвы, которыми тогда часто пользовались мужчины, «правились» кожаным ремнем, надетым на большое вращающееся колесо. А паяльщик тоже по-хозяйски устанавливал во дворе складной стульчик и переносной верстачок и начинал стучать своим молотком, кроить большими ножницами железо. Паяльник у него был в виде металлической пирамидки, укрепленной на длинной ручке. Эта пирамидка раскалялась на керосиновой паяльной лампе, выбрасывающей из своего нутра горячую голубоватую, почти не видимую струю.
Хозяйки во дворе обычно с удовольствием пользовались этой пришедшей на дом недорогой помощью. И тащили точить, паять и клепать то, что специально скорее всего не понесли бы в мастерские, чтобы продлить жизнь старым, но нужным вещам. Дети любили наблюдать за ловкой и спорой работой этих людей. Мужики были доброжелательны к нам, не прогоняли, только предупреждали, чтобы мы держались на безопасном расстоянии.
Изредка в нашем дворе происходили похороны. Тогда весь двор выходил провожать покойника в последний путь. Обычно играл оркестр, все становились за машиной с гробом и шли пешком до кладбища. Я помню, что первые похороны, когда я тоже была на кладбище (наверное, лет в шесть), произвели на меня сильное впечатление. После них ночью я вдруг проснулась и с похолодевшим сердцем представила, что и меня, когда я умру, тоже закопают в землю. И меня, мое тело, мое лицо, мои руки и ноги будут есть черви, а потом они сгниют. И это неизбежно. Я долго лежала, глядя в темноту. Потом я подумала, что все это будет очень-очень не скоро, а впереди у меня длинная-длинная и замечательная жизнь. На этом я успокоилась и уснула. И никому никогда, даже бабушке, не рассказывала об этом своем ночном страхе
ВЕРОЧКА НАУМОВА.
Справляться со всеми домашними делами было не просто. И какое-то врем, переехав в дом №37 на улице Дзержинского, бабушка еще держала прислугу. Но вскоре прислуги не стало, и все заботы свалились на нашу бабушку, так как остальные взрослые либо работали, либо учились, конечно, по возможности помогая ей. У меня сохранилось письмо бабушки к Ляляке в Москву, относящееся, наверное, году к 32 – 33-му, так как , как видно из письма, была еще жива тетя Оля, Вовочка (брат) был совсем маленьким, а я еще не родилась. Бабушка писала своей дочери: «Теперь немного о нашей жизни. У нас морозы до 30 градусов. Я без прислуги. Всегда в саже в связи с топкой печей и чисткой плиты. Ноги болят, а надо целый день бегать. Всех кормить, убирать. Вот почему я и жалуюсь, что редко пишут все…»
Я знала и хорошо помню последнюю бабушкину прислугу Верочку Наумову. Она была взята бабушкой задолго до моего появления на свет молоденькой девушкой. А я помню ее, когда у нее были уже взрослые дети, и она жила своим домом. Она была небольшого роста, кругленькая, добрая. Бабушка говорила, что Верочка «ясашна», ее предки были смешанных кровей: русских и бурятских или еще каких-то. Она была светленькая, но с характерным разрезом глаз и выдающимися скулами. Бабушка ее любила, звала Верочкой. Верочка повстречалась с Иннокентием Наумовым. Он был из челдонов, огромный, вихрастый, красивый грубой мужской красотой. У Наумовых в Иркутске был свой дом, скотина и огород. Верочка вышла замуж и уехала от бабушки. Они жили с мужем в предместье Радищево, дом их был на самой крайней улице, и окна выходили на большой пустырь, за которым начиналось кладбище. Этот пустырь теперь превращен в кладбище
Верочка родила трех сыновей, таких же удальцов, как отец, и дочь Лиду. Сыновья оказались «неудачными»: была какая-то драка с их участием, и они все оказались в тюрьме. Что с ними стало потом, я не знаю. А Лида поступила учиться в Горно-металлургический институт. Будучи студенткой, она часто бывала у нас дома. Даже ночевала иногда, припозднившись на каком-нибудь студенческом вечере Она очень уважительно относилась к бабушке. Лида была некрасивая, с широким лицом, с материнскими глазами и скулами. Я помню, что она очень страдала по этому поводу. Но ее жизнь как раз удалась. Она окончила институт, вышла замуж, завела детей, потом внуков. Она жила в Слюдянке, работала инженером на горно-рудном разрезе. Стала там известным и уважаемым человеком.
Мы с бабушкой довольно часто бывали в гостях у Верочки Наумовой. Никакого транспорта к ним не ходило. Зимой и летом мы шли туда пешком, мне это казалось очень далеко. Бабушке было трудно идти на отекших болевших ногах. Но она говорила: «Ничего, надо только разойтись». Она , и правда, расходилась, постепенно набирая скорость, уже в середине пути шла быстро, а к концу неслась, размахивая руками так, что я еле поспевала за ней. Зимой на такой скорости мы покрывались куржаком, из носа начинало течь. Бабушка, не притормаживая, умела высморкаться по-ямщицки: прижав рукой в большой рукавице одну ноздрю, сильно дула из второй. Я как-то попробовала на морозе такой прием, оказывается, при этом нос чудесно освобождается. Где этому научилась моя интеллигентная бабушка? Наверное, подсмотрела у ямщиков, когда они еще были.
Это было время войны и сразу после войны. Мы жили очень голодно. А у Верочки была корова и телка, свиньи, куры и утки. Был большой огород. Верочка любила угощать нас. Всегда были пироги с картошкой и капустой или блины, которые обмакивались в топленое масло или сметану. Пили чай с молоком. Летом Верочка всегда выводила нас в огород, и мы прямо с грядок ели морковь, редиску, репу, горох. Мне нравилось мыть сорванные овощи в большой бочке с теплой, нагретой солнцем, водой. Нам еще всегда и с собой заворачивались в бумагу гостинцы. Верочка любила нашу бабушку, очень уважала. И отношения у них были теплые и дружественные, совсем не как «у барыни и прислуги».
Иннокентий заболел «головой», как говорила Верочка. Его мучили головные боли, и , не выдержав, он повесился на своем ремне на спинке кровати. Верочка осталась с Лидой, а вскоре ее не стало.
НЯНЯ НИНА.
Когда я родилась, для меня взяли няню, девушку-сироту. Звали ее Ниной. Она была грамотная. Нина была сама доброта. Курносенькая, с мелкими-мелкими коротенькими зубками, с очень густыми и жесткими топорчащимися волосами. У нее была особенность или болезнь. Она была скорой, когда нужно было двигаться. Но как только она спокойно усаживалась, начинала потихоньку засыпать. Бабушка говорила, что первое время боялась, что нянька может, уснув, выронить ребенка. Но она держала его крепко, и моментально просыпалась от малейшего его движения. Бабушка убедилась, что к ребенку она относится трепетно ответственно. Я, когда подросла, видела, как няня Нина, взяв книгу, шитье или штопку, постепенно медленно закрывала глаза, и руки ее, продолжая двигаться, уже совершали непроизвольные движения. Спросишь ее: «Нина, ты спишь?» А она, не открывая своих узких глаз, ощерит мелкие зубки, тихонечко засмеется: «Хи-хи-хи» и тоненько протянет: «Не-е-е».
Она жила у нас и, когда я уже не нуждалась в няне, помогала бабушке по хозяйству. Спала она на большом сундуке в кухне. Когда началась война, и была объявлена всеобщая трудовая мобилизация, Нина пошла работать на завод им.Куйбышева. Ей приходилось ставить какие-то заклепки в морозном цеху. В плохой одежонке она сильно мерзла. И однажды не пошла на работу. Ее судили и сослали куда-то на Север. Всю войну ее не было, и мы о ней ничего не знали. Но после войны она вернулась, цветущая и располневшая. Оказалось, что во время своей ссылки она работала на разделке рыбы в каком-то рыболовецком хозяйстве. Рыбу можно было есть без ограничения. Так что в ссылке Нина прожила военные годы лучше, чем «на воле».
Она нанялась в домработницы к сестрам Соркиным. Ася Ильинична и Фаня Ильинична были известными медиками в Иркутске. Жили они хорошо, так что Нине опять повезло с едой и одеждой.
Потом она вышла замуж. Муж был много старше ее, и она звала его «мой старина». Это был своеобразный человек. Он напоминает мне шукшинского героя из рассказа «Срезал». Он считал себя очень знающим, мастером на все руки. Любил уверенно рассуждать о политике и международных делах. На самом деле он был не очень образован и умен. Он любил красиво выражаться. Например: «Сосуд, геометрически закуборенный (вместо герметически закупоренный)». Старина увез Нину из города, и они слонялись по деревням, где он пытался найти и не находил какую-нибудь постоянную работу, скорее всего из-за своего характера. У них родилось двое детей, которых отец на свой манер назвал Русланом и Людмилой. Старина скончался, и Нина с двумя маленькими детьми приехала в город. Она устроилась куда-то на работу, жила с детьми в общежитии. Они бедствовали. Она часто с детишками приходила к нам, иногда жила у нас по нескольку дней. Но мы сами еле-еле сводили концы с концами. Потом мы много лет не виделись. И вдруг уже сильно постаревшая няня Нина появилась у нас. Дети ее стали большими и оба зарабатывали сами на жизнь. А у моей сестры Иры, в это время студентки Политеха, родилась дочь Лариса. И моя мама уговорила Нину водиться с ребенком. Мы тогда жили у телецентра. Нина приходила туда на день, а вечером уходила домой. Потом Лариска заболела воспалением легких, ее положили в больницу. И Нина перестала приходить. С тех пор мы не виделись. Теперь ее уже, конечно, нет в живых. О судьбе ее детей я ничего не знаю.
НАШИ ЖИВОТНЫЕ.
В доме у нас всегда были животные. У бабушки долгие годы жила большая пушистая кошка белого цвета. Звалась она Старухой. От каждого ее приплода оставлялся котенок, иногда в доме было по нескольку кошек. Все они почему-то любили точить когти об ножки кухонного стола. И ножки стали дугообразными, чуть не наполовину по толщине сточенными многими поколениями кошек.
Перед войной, я помню, у нас была большая черная собака-дворняга, что-то в ней было от лайки и овчарки. Звали этого пса Рудька. Он был очень добрый и неприхотливый. Любил пить воду из ведра под умывальником. Когда начался военный голод, хуже всех доставалось Рудьке, его нечем было кормить. Однажды зимой пес забежал с улицы с говяжьей лыткой в зубах и сразу забился под бабушкину кровать. Он, видимо, стащил ее с воза у крестьянина. Бабушка отобрала у бедного Рудьки его трофей и сварила из него суп. А псу достались только косточки. Когда он уже совсем изголодался, бабушка сказала ему: «Видишь, нам самим есть нечего. Шел бы ты куда-нибудь, может где тебе будет лучше». И пес как-будто понял. Он ушел из дома и больше не вернулся. У нас тогда жил кролик Труська, о котором я уже писала.
Уже через несколько лет после войны у нас снова появились животные. Зимой, возвращаясь в темноте из школы, я увидела под нашим окном на белом снегу черный комочек. Это оказался щенок, я принесла его домой, и он остался у нас жить. В то время в кино шел фильм «Максимка» про негритянского мальчика, спасенного русскими моряками. Фильм нам всем очень нравился, и мы решили назвать черненького щенка Максимкой. Он превратился в небольшую симпатичную дворняжку с пушистым хвостом-колечком. Максимка любил гонять дворовых кошек, но нашего кота никогда не трогал, относился к нему благожелательно. Мы все, в том числе и животные, любили греться перед открытой дверцей печки, глядя на весело и уютно потрескивающие дрова. Максимка ложился на бок, вытянув лапы, а кот укладывался на нем поперек живота. Прожил пес довольно долго. Уже, когда я училась в университете, его сбила машина. Любовь к собакам у меня – всю жизнь. Недавно я с большим горем рассталась с прекрасным коричневым пуделем Тилем, золотым медалистом. Мы с ним душа в душу прожили до его кончины двенадцать лет. А теперь у меня – палевый американский кокер-спаниель Татошка Эту кличку я дала ему, так как с детства люблю «Волшебника изумрудного города». Он милый, красивый и веселый, но очень своенравный. Ему два года, мы с ним любим друг друга.
Еще у нас дома жили много лет коты. В разное время было три сибирских красивых полосатых кота, всех звали Васьками. Хорошо помню первого послевоенного Ваську. С ним было несколько приключений. Во-первых, его хотел унести пьяненький мужик. Мы с сестрой и дворовыми ребятами играли на улице и вдруг увидели, что мужик несет за пазухой нашего кота, мы сразу узнали его по морде, в тот момент очень испуганной. Мы все бросились к мужику и стали уговаривать вернуть кота. Чтобы доказать, что кот наш, мы просили похитителя рассмотреть кончик хвоста, там на белой шерстке были черные волосики. Мужик пьяно пялился на кошачий хвост и твердил, что не видит никаких волосков. Пришлось бежать за бабушкой, и только с ее помощью кот был возвращен.
Зимой этот Васька любил залезать в открытую дверцу протопившейся печки и греться на полуостывших углях. Однажды он поймал там крысу, видимо, тоже решившую погреться. Вдруг мы услышали возню и визг внутри печи, оттуда вывалился двухцветный ком и пронесся через коридор на кухню. Это были вцепившиеся друг в друга наш кот и большая крыса. Визжали оба. Но кот одержал победу, и дохлая крыса была брошена на полу, есть ее кот не стал.
Привычка греться в печке дважды чуть не стоила коту жизни. Во время его лежания на углях, не ведая об этом, печку набивали дровами и поджигали. Когда начинался огонь и дым, кот начинал завывать за дровами. Бабушка оба раза самоотверженно выхватывала руками уже загоревшиеся поленья. Потом перепуганного кота клюкой извлекали из печки. Но он не расстался со своей привычкой. Перед каждой топкой приходилось убеждаться в его безопасности.
Последнего Ваську принесла мама крохотным котенком. Он сразу попал под тяжелую кухонную дверь. Мы боялись, что он не перенесет последствий. Но котенок оказался живучим. Вскоре мы все уехали из дома надолго, кто в отпуск, кто на каникулы. Ваську препоручили одной из Ириных подруг, она кормила его сырой камбалой и изредка меняла его горшок. Когда я первой вернулась домой и открыла дверь, в нос мне шибанул жуткий запах, а из темноты появилось огромное со светящимися глазами животное. Котенок превратился в очень крупного с прекрасной пушистой шерстью и красивой мордой кота. Он прожил на свете двадцать лет, два раза переезжал с нами с квартиры на квартиру. Когда мы с мужем купили моторную лодку и «ходили» на Байкал, кот путешествовал с нами. Привык к лодке, палатке. Мы с ним вечером вместе ходили на берег Байкала и сидели рядом, смотря вдаль и ожидая нашего рыбака. Кот всегда получал свою порцию свежей рыбки. Он за двадцать лет почти «очеловечился», все понимал. Он умел носить поноску, как собака. Влезал мордой и передними лапами, задрав вверх хвост, в студенческую сумку моей сестры и доставал оттуда стирательную резинку. Бросишь ему резинку, а он мчится за ней, хватает зубами и несет обратно. Положит у ног и ждет, когда опять бросишь Я очень к нему привязалась и сильно горевала, когда он умер от старости.
Май 2005 г. – февраль 2006 г.
г.Иркутск.