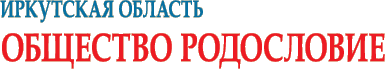Земля и корни (Н.Н. Михайлова)
Детство. Из всей прожитой моей жизни оно вспоминается наиболее ярко и отчетливо. Хорошо помнятся люди, меня окружавшие, дом, где я росла, многие события, мои детские чувства и ощущения, даже звуки и запахи, наполнявшие тогда мир.
На эти воспоминания душа откликается теплотой и радостью. И так не хочется, чтобы все это когда-нибудь ушло навсегда. Поэтому и решилась писать. Может быть кто-нибудь из моих близких когда-нибудь прочтет это «писание». Хочется, чтобы у читающего пробудились интерес и добрые чувства к своим предкам.
Глава 2. Бабушка Анна Викторовна Бессонова
Она знала не очень радостное детство, рано оставшись сиротой. В юности получила хорошее по своему времени образование. Выйдя замуж за известного в Иркутске доктора Бессонова, жила в счастье и достатке в окружении детей, добрых друзей семьи. В советское время семья, не имея уже прежнего достатка, жила скромно. Прислуга была уволена, и бабушка взяла на себя многочисленные хлопоты по дому. Ей, как и всей семье, досталась очень трудная жизнь в военные сороковые годы, да и в первые послевоенные.
Без малейшего преувеличения могу сказать, что бабушка Анна Викторовна Бессонова была самым главным человеком в моей судьбе. Содержанием ее жизни было воспитание детей: детей своих и своего мужа, а потом нас, своих внуков.
Я помню, как-то во время одной из кампаний по переписи населения переписчица спросила у бабушки о ее работе. Бабушка удивилась и ответила: "Я воспитываю детей". Переписчица: "Значит, запишем - домашняя хозяйка". Бабушка из вежливости промолчала, но потом с возмущением всем рассказывала, что ее назвали какой-то ужасной домашней хозяйкой. Она была уверена, что это определение ей никак не подходит. И она была очень права. Она была для нас воспитателем, наставником, защитницей и спасительницей в трудное время, настоящим другом. Бабушка Анна Викторовна была стержнем семьи Бессоновых, ее духовной основой.
Почти всем в себе я обязана бабушке. Без нее совсем иными были бы мое детство и юность, да и я сама была бы, наверное, совсем другой.
Анна Викторовна была необыкновенным, замечательным человеком. Она очень похожа на бабушку у Гончарова в "Обрыве". По этой причине я люблю перечитывать роман. Та же детская светлость, радостное восприятие жизни, вера, что нужно жить подобру, трогательная наивность и в то же время умение стать стойкой и непреклонной в нужное время, умение переносить трудности и горе, те же уважение и даже почтение к ней окружающих.
Анна Викторовна родилась 28 апреля 1882 года в городе Канске Красноярского края в семье дворян: врача Виктора Антоновича Гейбовича (из ссыльных поляков) и его жены, русской, Евдокии Арсентьевны, в девичестве Хромовой. Родители Анны рано умерли (кажется от тифа), и она, как и мой дед, маленькой девочкой осталась сиротой. Опекуном ее стал ее дядя, брат матери, Хромов Нил Арсентьевич. Воспитывала же девочку бабушка, мать ее матери и дяди, Хромова Мариамна Ивановна. Хромовы имели в Канске торговое дело и по имеющимся документам являлись потомственными почетными гражданами.
Бабушка рассказывала нам о своем детстве. Ее бабушка была строга. Провинившуюся или капризничающую внучку подзовет, сурово помашет указательным пальцем у нее перед носом и скажет: "Цыц, нишкни." И добавит: "У-у-у, полячонок". На дни рождения бабушка дарила внучке серебряный рубль и прятала его у себя. Как-то внучка подсчитала, что у нее должно быть несколько серебряных рублей - целое богатство. Спросила у бабушки: "Где мои рубли?» В ответ бабушка весело рассмеялась: "Глупая девочка. Я ведь тебе всегда один и тот же рубль дарила". От родителей бабушке были оставлены какие-то деньги, на которые она училась, а, выходя замуж, приобрела себе приданое.
Когда Анне настала пора учиться, ее отправили в Иркутск и определили воспитанницей Института Императора Николая I (благородных девиц). Выбор места обучения определялся, я думаю, тем, что институт давал хорошее образование, и воспитанницы учились и жили в институте на полном пансионе. Кроме того, в Иркутске жила родня бабушки по материнской линии (Черкашенины, Костромитиновы, Сизых). Одна из Черкашениных, Зиновия Стефановна, как раз в годы бабушкиной учебы была в институте благородных девиц воспитательницей и преподавала рукоделие. К сожалению, толком не знаю этих родственных связей, помню только, в моем детстве бабушка называла имена своих племянников: Ростик, Сабина, Мурочка. У некоторых из них мы даже бывали в гостях. А в 2003-м году, больше, чем через пятьдесят лет после смерти бабушки, когда я стала ходить на заседания общества "Родословие", занявшись своей родословной, мы вдруг встретились с дочерью Ростика Мариной Новоселовой, в девичестве Сизых. А потом я познакомилась с ее двоюродной сестрой Галиной Костромитиновой, с дочерью Марины и ее внуками. Так что через пятьдесят лет я вновь обрела родственников по бабушкиной линии. Правда, у меня нет ясности в наших родственных отношениях.
Институт бабушка окончила в 1899 году, проучившись еще дополнительно в пепиньерском классе, что давало ей право стать домашней наставницей и учительницей. Очень интересны бабушкины документы об окончании института, бережно сохраненные ею. В ее аттестате указано, что «сия девица» оказала успехи во многих дисциплинах : Законе Божием, русском языке и словесности, французском и немецком языках, математике, естествознании, истории, географии, педагогике, рисовании, чистописании и рукоделии. «Сверх того обучалась танцованию, гимнастике и музыке. За успехи в обучении всемилостивейше награждена книгою".
Бабушка подробно рассказывала нам о своем институте. Обучение в нем начиналось с 7-го класса и заканчивалось 1-м. Несколько самых лучших учениц могли оставаться учиться еще на один год в пепиньерском классе. Они имели право потом преподавать в этом же институте, школах, быть семейными учителями и наставниками. Обучение было разносторонним, и образование, полученное в институте, считалось привилегированным. Правда, бабушка сама признавалась, что в таких науках, как физика и химия, она знала немного. Она любила повторять, что помнит из физики про лейденскую банку: «'это такая склянка, внутри которой палочка, а наверху которой шишечка». Зато девиц серьезно учили словесности, языкам, музыке, рукоделию. Их педагогами были высококвалифицированные люди, часто приглашаемые из столиц. Для обучения иностранным языкам у каждого класса были две воспитательницы - немка и француженка. Они дежурили с классом по два дня, и на протяжении этих дней девушки должны были общаться между собой и с воспитательницей только на немецком или французском языках, в зависимости от дежурившей воспитательницы. Было обучение пению, они пели в хорах, при этом обязательно было духовное песнопение. Одаренных обучали индивидуально. В институт часто привозили певцов и артистов, ставились отрывки из опер и спектаклей. Водили в театр и на концерты приезжих знаменитостей. Уделялось внимание и физическим упражнениям. Девушек обучали хорошим манерам. По коридорам нельзя было носиться с криками, а нужно было спокойно прохаживаться, расправив плечи, не сутулясь и держа руки, сложенными у пояса. Девочки очень любили ходить в обнимку между собой или с классной дамой. Платья носили строгие с белыми нарукавниками, передниками и пелеринами. Все это должно было содержаться в идеальной чистоте. Головы должны были быть гладко причесанными.
Институт обитал в 3-х-этажном каменном здании, специально для него выстроенном на берегу Ангары. В нем в советское время разместили госуниверситет. Интересно, что моя мама и ее сестра Анна учились в университете в том же здании, где училась моя бабушка. И я тоже студенткой физ-мата слушала лекции по научному коммунизму в аудитории, которая когда-то была залом, где танцевала на балах моя юная бабушка.
Правое крыло первого этажа было занято приемной, столовой и личной квартирой из 3-х комнат начальницы института. (Когда я училась в университете, в одной из этих комнат сохранялся красивый изразцовый белый камин. Потом он был разобран и перенесен для оформления музея декабриста Трубецкого). В левой части первого этажа находились кухня и столовая для учениц. Классы находились на втором этаже, там же - жилые комнаты преподавателей. Третий этаж – дортуары, комнаты воспитательниц и церковь. В деревянном пристрое располагался лазарет, кабинет врача, палаты для больных. Во дворе были специальные строения - баня и помещение для обслуживающего персонала. За зданием института располагался красивый ухоженный парк, с аллеями, газонами, площадками для игры в крокет и волейбол (теперь на этом месте стадион "Труд".) Зимой заливалась высокая горка, был каток. Летом институток вывозили на дачу на берег тогда полноводной Ушаковки близь Казанской церкви, куда водили на богослужение.
Большим праздником для воспитанниц были устраиваемые в институте рождественские балы. Приглашался военный оркестр и кавалеры - офицеры и учащиеся военного училища, воспитанники кадетского корпуса. Тогда заранее шились праздничные наряды, старшие воспитанницы шили сами. Бабушка любила рассказывать, как их учительница по шитью, когда у кого-нибудь что-то в платье получалось не очень хорошо, говорила: "Музыка заиграет, ничего видно не будет. Главное - сияющие глаза и веселая улыбка". Потом, когда бабушка учила шить меня, она тоже всегда говорила, ободряя меня: "Музыка заиграет, ничего видно не будет". На балах царили радостное возбуждение от елки, праздника, военной музыки, кавалеров. Когда не хватало кавалеров, девушки танцевали друг с другом, как говорила бабушка, "шерочка с машерочкой". Непременно играли в почту: каждому на грудь привешивался номерок, и на этот номерок от другого, таинственного, номерка присылалось через "почтальона" какое-нибудь послание, обычно со словами восхищения, поклонения, а то и объяснения в любви. Иногда и что-то неприятное. Получивший послание с волнением разыскивал в веселящейся толпе автора.
Институт прививал воспитанницам патриотические чувства. И бабушка моя была патриоткой. Сохранилось ее "Свидетельство об окончании курсов Российского общества Красного Креста, состоящего под высочайшим покровительством ея императорского величества Государыни Императрицы Марии Федоровны", выданное в 1905 году. Бабушка, как многие передовые женщины, во время Русско-японской войны прошла такие курсы. Она в помощь фронту щипала корпию для госпиталей.
Они познакомились задолго до своего брака в Иркутском институте Императора Николая I, где Анна Гейбович была воспитанницей, а Николай Бессонов был врачом-консультантом. Бабушка, тогда совсем юная девушка, а дед - 30-ти-летний красавец военный доктор, семейный основательный человек. Бабушка рассказывала, что начальница института баронесса Котц сначала не хотела принимать на работу деда, опасаясь появления в девичьем институте молодого интересного военного. Она с сомнением сказала ему: "Уж очень Вы молоды". На что доктор возразил: " Но ведь этот мой недостаток будет уменьшаться с каждым днем". Ответ очень понравился баронессе, и дед был принят. Конечно, восторженные институтки "обожали" молодого остроумного и доброжелательного доктора. Некоторые, по рассказам бабушки, специально высовывались в форточку и дышали морозным воздухом, чтобы потом попасть на прием к доктору.
А моя бабушка сразу и навсегда полюбила деда. Спустя годы, уже после кончины жены деда Варвары Болеславовны, дед и бабушка повстречались снова. Расцвет их романа пришелся на годы Русско-японской войны. Они встретились в Мысовске, бабушка жила там после окончания института у родственников. В 1905 году они обвенчались в церкви станции Мысовой Забайкальской железной дороги. Бабушка была моложе деда на 11 лет. Они очень любили друг друга. Бабушка всю жизнь звала его нежно Котичка, а он называл ее "мамочка".
Среди стихов деда много, посвященных моей бабушке.
Вот какие стихи написал дед бабушке - своей невесте:
За ласковый твой взгляд отдам, тебя любя,
Остаток дней своих - дороже их он стоит.
Пускай принадлежит тебе вся жизнь моя.
Ни слова обо мне. Все для тебя, дитя!
Тебе одной молюсь. Пускай молитва та
В рай навсегда дорогу мне закроет.
Не надо рая мне - я так люблю тебя!
Ни слова обо мне. Все для тебя, дитя!
Есть еще такие строки:
Я Вас люблю, пусть Вас не оскорбит
Любовь - она часта страданьем и слезой.
Не отнимайте то, что душу оживляет,
Как солнца луч цветок, помятый под грозой.
Бабушка помнила стихи мужа наизусть. Уже после смерти дедушки она любила перечитывать тетрадку с его стихами. Помню, бывало, уединится в своей комнате, и слышно, как она сморкается, а выйдет - глаза заплаканные.
Ее нельзя было назвать красивой. В молодости она была очень тоненькой, прямо тростиночка. Черты лица крупные, унаследованные от отца-поляка. Крупные же, но красивые руки. А глаза у нее были материнские - большие черные, с очень белыми, почти голубыми, белками и всегда какие-то сияющие. Легкие волосы, собранные на затылке. От ее облика исходили доброта и благородство. Наверное за ее душевные качества ее и полюбил мой дед. После первых родов бабушка очень располнела. Она огорчалась и стеснялась первое время своей полноты. Но полнота совсем не безобразила ее, а придавала ей дородность и основательность.
Бабушка родила четверых детей: двоих сыновей, Сергея и Владимира, и двух дочерей, Анну и Наталью - мою маму. Она рожала их одного за другим каждый год. Совсем недавно от Марины Ростиславовны Новоселовой, которая много работала в архивах, я узнала, что у бабушки был еще один, пятый, ребенок. Он родился предпоследним, был назван Владимиром и умер, когда ему не исполнилось и года. Эти сведения были найдены в похоронной книге г.Иркутска за 1910 год. Бабушка не хотела говорить об этом умершем ребенке. Она умела хранить тайны. Никто из внуков, скорее всего и ее детей, не знал о существовании этого младенца.
Когда бабушка вышла замуж, она с любовью приняла троих детей мужа и воспитывала их как своих. И дети ее очень любили, особенно младший Юша, не знавший родной матери. Он звал ее всю жизнь мамочкой. Дети поддерживали родственные отношения и с Шостаковичами.
Бабушка была прекрасным воспитателем - дар от природы. Отношения к детям в семье были уважительными, как к равным. Я не помню, чтобы на нас кричали, наказывали "углом" или лишением какой-нибудь радости. Бабушка умела сказать тоном, не терпящим возражения: "Эт-т-то, что такое! Прекрати, сейчас же. И чтобы это никогда не повторялось». Обычно же наш проступок заканчивался душеспасительной беседой на бабушкиных коленях. Я и сейчас вспоминаю одну из этих бесед, когда мне, 11 или 12-ти-летней девочке, бабушка говорила: "Знаешь, Тусенька, завоевать уважение людей очень трудно, нужны годы, а может и вся жизнь, а потерять его можно мгновенно, одним поступком". Я не помню, по поводу какого моего проступка, может и не очень серьезного, велся этот разговор, но я запомнила его на всю жизнь.
У нас в семье не были приняты "телячьи нежности", поцелуи, сюсюканье. Но я очень любила в детстве обнять бабушку за шею, прижаться к ней, мягкой и теплой, а она обхватит тебя большими крепкими руками, и ты покачиваешься тихонько вместе с ней. Она что-нибудь говорит только тебе, а чаще просто молчит. И так покойно и хорошо, как, пожалуй, уже больше не бывало в жизни. Можно было так же прижаться к бабушке и в юности в минуты нарушения душевного равновесия. Ничего не надо было говорить, а она и не спрашивала, просто прижаться и покачиваться, покачиваться.
Бабушка много читала нам вслух. Особенно помню книжки "Леди Джейн, или голубая цапля", "Принц и нищий", "Хижина дяди Тома". Бабушка очень непосредственно и эмоционально переживала все описываемые события, плакала вместе с нами в грустных или трогательных местах. При этом на кончике ее большого носа нависала прозрачная капля, которую она не замечала, но знала, что такое бывает. Поэтому однажды она попросила нас: "Когда увидите каплю, скажите мне". Но чтобы это выглядело пристойно, сказать это надо было по-французски. Поэтому при чтении в необходимый момент мы дружно произносили: "Бабушка, лё нэ". И она смущенно "трубила" в носовой платок. Привычка громко сморкаться, как она рассказывала, была у нее с детства. Ее за это бранила бабушка Мариамна Ивановна. А в институте классная дама уверяла, что девице ее круга непристойно так «трубить». Но эту привычку бабушка сохранила на всю жизнь.
Мы с сестрой запомнили бабушкины песенки, которые ей, может быть, пела ее бабушка или мама. Она сама подсмеивалась над их сентиментальностью и наивностью. Но это было из ее, милого ее сердцу, детства:
Вечер был, сверкали звезды, на дворе мороз трещал,
Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал.
Боже, говорил малютка, я озяб и есть хочу,
Кто согреет и накормит, Боже, бедну сироту?
Шла дорогой той старушка, увидала сироту.
Приютила и согрела и поесть дала ему.
Спать в постельку уложила. Как тепло - промолвил он.
Закрыл глазки, улыбнулся и уснул спокойным сном.
Бог и пташку в поле кормит, и росой поит цветок,
Бесприютного малютку тоже не оставит Бог,
И еще:
Встану я, умоюся, гладко причешусь,
Сердцем успокоюся, Богу помолюсь.
Встанет моя маменька, спросит мой урок.
Скажет : "Душка Анечка, скушай пирожок".
Попишу я палочек, пойду в сад гулять.
Буду ловить бабочек и малинку рвать.
Бабушка своим тихим голоском, но очень правильно, пропела нам в детстве все знаменитые арии, дуэты и даже хоры из опер. Бабушка шила детям одежду и даже обувь. Она научила меня шить и вышивать, подарила мне свои пяльца и вышивальные иголки с золотым ушком. Благодаря бабушке я всю жизнь шила себе сама на доставшейся мне от нее машинке "Зингер". А вышивка после ухода на пенсию стала моим большим увлечением и радостью.
Она была прекрасной рассказчицей. Особенно помню зимние вечера в холодное военное время, когда мы любили сидеть в темноте перед открытой дверцей топящейся печки. Мы, дети, просили бабушку: «Расскажи нам про старину». Бабушкина юность казалась нам стариной. И она рассказывала нам про эту прекрасную, как нам представлялось, "старину" с обычаями и нравами наивных и восторженных институток, их увлечениями стихами и альбомами с "секретами"- загнутыми уголками страниц, куда писалось самое сокровенное, с их обязательным "обожанием" кого-то, с балами, нарядами, кавалерами; о строгости директрисы и воспитателей, добивающихся от девиц благонравия, скромности и умения заниматься домашним трудом.
Бабушка всегда была непререкаемым авторитетом у детей и взрослых в нашем дворе. Детвора часто собиралась вокруг моей бабушки. Все любили слушать ее рассказы. Она незаметно учила добру, справедливости, учила не обижать птиц, животных и даже растения, всегда говоря, что они "тоже живые", и им «тоже больно». Она, видимо, хорошо помнила свое сиротское детство. Всегда очень хорошо понимала нас, детей. Ей не надо было объяснять свои обиды и поступки. Обиженные взрослыми дети, когда соседи не разрешали орать, носиться но двору, играя в лапту или волейбол, так как мы нередко "высаживали" стекла, всегда бежали за помощью к Анне Викторовне. И она всегда вставала на сторону детей и умела справиться с взрослыми. Она умела, не обижая, отчитать и взрослых за неправильные поступки. Бывало, дети затевали какие-нибудь походы или игры, сопряженные с возможной опасностью. Родители спрашивали: "А Тусе (это - я) бабушка разрешила?" И если разрешила, значит, разрешалось и всем. Нам разрешалось лазать по чердакам и крышам двухэтажных домов. Носиться по длинной плоской полусгнившей крыше сараев, залезать на старый-старый сеновал. Скакать во время грозы под проливным дождем или стоять под водосточной трубой.
Я вспоминаю, что наш дом всегда был полон детьми разных возрастов (мы с братом и сестрой отличаемся по возрасту на более чем пять, лет), а потом - подростков, студентов. Нам никогда не делались замечания по поводу тащимой в дом грязи и устраивания беспорядка во время наших игр. Да, надо по правде сказать, наш дом и не отличался особой чистотой и порядком. Но нам и нашим друзьям в нем было хорошо. Все наши друзья с большим уважением относились к бабушке. Они до сих пор вспоминают о ней с теплотой.
Бабушка всегда вникала во все наши дела и проблемы, была первой советчицей и помощницей, гордилась нашими успехами в учебе, нашими хорошими поступками. Бабушка всегда была с нами рядом.
Бабушка сама до последних дней сохранила детские черты - непосредственность и восторженность. Умела находить радость во всех проявлениях жизни. Например, она рассказывала нам, как, когда ее дети были еще небольшими, она вместе с ними в тайне от мужа бегала в кино на последний сеанс. Вечером дети укладывались спать, а дед обычно уезжал играть в карты. Бабушка частенько будила их: дети, вставайте, папа уехал в Собрание. И они все радостно соскакивали с постелей и бежали в кинематограф.
Вспоминаю, как она восторженно любила пение популярного в военные и послевоенные годы Бунчикова. У него, действительно, был красивый голос, и пел он чаще патриотические песни. Бабушке особенно нравилась «Летят перелетные птицы». Все в семье, в доме и во дворе знали об этой любви бабушки к Бунчикову. Когда он пел по радио, кто-нибудь обязательно кричал ей: "Бунчиков поет!" И бабушка, бросив все дела, бывало, с руками, перепачканными картошкой или сажей от плиты, с горящими радостью глазами припадала к тарелке громкоговорителя. Ей очень хотелось иметь фотокарточку Бунчикова. И вот ее сын Сергей, живший в Москве, прислал ей вырезку из "Огонька" с мелким и не очень выразительным снимком Бунчикова, поющего в микрофон. Бабушка обернула эту вырезку в фольгу от чайной упаковки и поставила на столе у своей кровати.
Мне неизвестно, верила ли моя бабушка в Бога. В церковь она не ходила. А дома у нас была толстая в дорогом переплете Библия и икона Христа-спасителя в футляре с открывающимися створками. И то, и другое лежало в большом деревянном сундуке на кухне, в котором чего только не было: бабушкино подвенечное платье, дедова сабля, большая фарфоровая кукла с красивыми закрывающимися глазами, голая, без волос и с болтающимися на растянутых резинках руками и ногами (может быть, бабушка играла ею в детстве). Помню тряпку с яркими разноцветными беспорядочными пятнами (когда-то она служила для того, чтобы класть на нее для просушивания крашеные на пасху яйца.) Это все были бабушкины реликвии. В моем детстве и юности в семье о Боге не говорили. И бабушка тоже. Но все же, думаю, она была человеком верующим. Во всяком случае, жила-то она по божеским законам.
Я очень дорожу теми некоторыми бабушкиными вещами, которые, к счастью, сохранились у меня. Прежде всего - это швейная машинка "Зингер", ручная, ей больше ста лет. Но она прекрасно шьет и служит мне верой и правдой. В моей спальне висит под потолком великолепный на медных подвесках, стеклянный абажур в виде большого колокольчика, разрисованного по голубому фону листьями и цветами ромашки. В прихожей - тоже бабушкин светильник - маленький дымчатый колокольчик. Я знаю, что бабушка его очень любила. Фарфоровый, расписанный маками и оправленный в деревянную раму с медными ручками поднос, а также очень удачно вмонтированные в мебель, сделанную руками моего мужа, дверцы от бабушкиного старинного буфета с витражами из изящно изогнутых лилий живут вместе со мной в моем доме. Я вообще отношусь к вещам как к живым, не люблю их менять, берегу. А эти очень люблю, так как душа их хранит очень многое, и я чую эту душу.
Бабушка умерла в 1958 году, когда я училась на 4-м курсе университета. У неё случилась кишечная непроходимость. Почему-то ее долго не клали в больницу, она ужасно мучилась. А потом не стали делать операцию, боясь, что она не выдержит наркоза. Я помню, как она лежала на каталке в приемном покое городской больницы, а мы с мамой ждали, когда ее увезут. Я смотрела на бабушку с горестным чувством, понимая, что скорее всего больше не увижу ее. Хотелось поцеловать ее, что-нибудь сказать, попрощаться. Но мне не дало это сделать выражение ее лица - отрешенное, уже какое-то нездешнее, и я постеснялась, не посмела нарушить это ее отрешение.
Я не сделала это при ее жизни, а сейчас хочу это сделать: я прошу у нее прощения за вольно и невольно причиненные ей обиды, боль и горечь и от всего сердца говорю ей "спасибо" за то, что она была в моей жизни.
Бабушку похоронили рядом с могилой деда, в одной оградке, на Лисихинском кладбище. Там старая-старая черемуха, которая весной буйно цветет, а осенью на ней много крупных ягод. Бабушка пережила деда на 17 лет. А теперь они - под одним черным памятником с православным крестом. Мы с сестрой ухаживаем за могилами.
БАБУШКИНЫ ДРУЗЬЯ И ПРИЯТЕЛИ.
В доме Бессоновых бывало много друзей и приятелей. Это были люди из окружения деда - интеллигенция, в основном врачи. К сожалению, по своему возрасту я не знаю их, не помню рассказов о них. Поэтому могу написать только о тех, с кем общалась и кого знала.
Иногда бабушку навещали ее подруги по институту. Я вспоминаю их в первые послевоенные годы. Они, уже в солидном возрасте, по институтской привычке всегда называли друг друга уменьшительными именами. Я хорошо помню двух: Ниночку Зуеву и Линочку Акатову. Обе они бабушку называли Анечкой. Линочка казалась мне по сравнению с бабушкой дряхлой старушкой. Она была худая, согбенная, с серым морщинистым лицом. Приходила всегда с палкой и сумкой, подвешенной за веревку на шею, всегда закутанная во множество платков. Разговаривала каким-то плаксивым тоном. У нее был свой дом в Рабочем предместье. Я с бабушкой бывала у нее в гостях. Меня, я помню, поразили и темный дряхлый дом с такой же дряхлой, когда-то красивой мебелью, и запущенный сад вокруг дома. Когда-то, наверное, в нем были и цветы, и ягоды. Теперь же плодоносили одни "ранетки", которые безжалостно обрывали соседские мальчишки. Линочка плаксиво жаловалась бабушке: они ее не слушают, а только смеются и дразнятся. Бабушка очень душевно относилась к Линочке, встречала ее с большой радостью. Говорила, что Линочка - прекрасный человек, из хорошей интеллигентной семьи, но у нее трудная судьба. Ее муж был военным, рано умер (или был убит), и она осталась совсем одна. Это ее надломило. Ниночка была совсем другая. Полная, улыбчивая, говорила тихим голосом, картавя, произнося «в», вместо «л» . Она жила с дочерью (муж ее тоже умер) на улице Ленина в каменном двухэтажном доме, в котором меня поражали его очень толстые стены. Дом стоял на том месте, где сейчас стадион "Труд". Когда мы бывали у Ниночки в гостях, я всегда не отходила от стеклянной горки, несколько полок которой были заполнены всевозможными безделушками, статуэтками, старинными чашками, какими-то куколками, красочными расписными яйцами. Пока подружки пили чай, делились воспоминаниями и текущими заботами, мне разрешалось перебирать все эти вещи и разглядывать их. Жила Ниночка, на мой детский взгляд, гораздо лучше Линочки. Ее комната, когда я там бывала, была теплой, светлой, а главное, там была эта чудесная горка.
Бабушка дружила с жившей неподалеку от нас старой полькой. Звали ее Параскоя, но она это имя не любила и сама себя называла Матвевна. Она была очень привязана к бабушке. Как они познакомились, я не знаю. У нее было двое внуков Юзя и Стасик, она иногда приводила меня к ним поиграть. Матвевна была очень приветливой и доброй. Приходя к нам, она обязательно, даже в военное время, приносила какой-нибудь гостинец: морковку, репку, кусочек сахара, сухарик, и при этом всегда говорила: это вам заинька прислал. Если я спрашивала, какой заинька, она придумывала: шла по улице и встретила его, такой серенький, с ушками.
Помню и очень разговорчивую бабушкину приятельницу (не запомнила ее имени) - мать тогдашнего председателя президиума нашего отделения академии наук В.А.Кротова. Она жила на улице Д.Событий, бывала и подолгу просиживала у бабушки. Она любила со всеми подробностями вспоминать свою жизнь и всех своих родных и знакомых. В ее рассказах было много интересного из истории города и светского общества.
Одной из добрых приятельниц бабушки была Ангелина Викторовна Богодарова. Она очень часто бывала у нас дома, и я хорошо ее знаю. Ее отец, Богодаров Виктор Яковлевич, дворянин по происхождению, служил в Иркутске старшим врачом 27 стрелкового сибирского полка. Член общественного собрания, картежник, он был хорошо знаком и часто общался с моим дедом Н.Н.Бессоновым. А брат мачехи Ангелины Викторовны, Валентин Михайлович Кубинцев, был женат на одной из дочерей Болеслава Петровича Шостаковича, родной сестре первой жены моего деда. Семьи общались между собой и тогда, когда после смерти Варвары Болеславовны дедушка женился на Анне Викторовне. Моя бабушка, хоть и принадлежала к кругу родителей Ангелины Викторовны, была ненамного ее старше. Поэтому они подружились. Ангелина Викторовна, как и ранее моя бабушка, училась в институте благородных девиц. Но учеба в старших классах застала ее в годы начала революции и гражданской войны. Тогда, в зависимости от того, какая устанавливалась власть, то советская, то Колчака, то опять советская, институт то закрывался, то открывался. Воспитанниц то переводили в приют, то опять возвращали в институт. Весной 1920 года, когда окончательно установилась советская власть, институт закрыли. Младших детей перевели в Сиропитательный дом Е.Медведниковой, а Ангелина Викторовна попала в так называемую "Юную коммуну" - тот же сиропитательный дом, так как к этому времени отец ее "пропал", а мать умерла еще в ее детстве. Ангелина заканчивала советскую школу. Когда ей исполнилось 18 лет, ее безо всяких средств "выставили" в самостоятельную жизнь. Ее приютили друзья отца. Она работала. Потом окончила правово-экономический факультет открывшегося в бывшем ее институте Иркутского университета. Стала юристом. И проработала им всю жизнь.
Ангелина Викторовна была великим оптимистом, хотя досталась ей тяжелая доля. Была она немного экспансивная, порывистая и не очень ловкая в движениях. Она сама любила повторять со смехом такую фразу: «Ангелина Викторовна, не сядьте, пожалуйста, на ребенка». Это моя бабушка частенько говорила ей, когда она приходила к ней в гости. В 1938 году ее мужа и ее саму арестовали, ее подвергали активным допросам. Она рассказывала, что арестованным не давали спать по нескольку суток, заставляли часами стоять на ногах у стенки. Били по голове. Одну толстую еврейку все время заставляли приседать, и она, не выдержав, взмолилась: "Ой! Дайте мне, пожалуйста, какой-нибудь другой номер!" Через год Ангелину Викторовну без всяких объяснений выпустили из тюрьмы. Но ей запретили жить в Иркутске, всю оставшуюся жизнь она прожила в городе Черемхово. После тюрьмы у нее сделалось косоглазие, и она стала плохо видеть. Когда она была в заключении, без нее умер ее маленький сын. Муж так и сгинул. Ее второго мужа через несколько лет тоже, арестовали, и он тоже не вернулся. Она боготворила своего второго сына Костю, он был "все" для нее.
Костя учился на 4-м курсе Иркутского Горного института и летом поехал на производственную практику. Оттуда он не вернулся. На берегу реки нашли его вещи и очки, а сам Костя бесследно исчез. Его пытались искать, но не нашли . Ангелина Викторовна тогда приезжала в Иркутск, жила у нас несколько дней. Она была, как безумная, от горя. Бабушка, как могла, поддерживала ее. Но Ангелина Викторовна пережила и это. И через какое-то время даже могла шутить и смеяться. Она часто повторяла слышанное когда-то в детстве от их домработницы Марфы: "Нет часливых людей, есть часливые карактеры". У нее был "часливый карактер". В ней, как и в моей бабушке, много было из детства. Может, это - влияние воспитания в институте благородных девиц. Она, когда ей было уже под 90 лет, здороваясь, всегда делала книксен: отставляла немножко в сторону одну ногу, к ней приставляла вторую и с обаятельной улыбкой приседала на обеих ногах. Она как-то по-детски держала чашку, когда пила чай - одновременно пальцами обеих рук. Я с замиранием смотрела, как она выпрыгивала из трамвая или автобуса: поставит вместе ноги, присядет немножко и, не держась, спрыгнет обеими ногам на землю, совсем как ребенок.
Ангелина Викторовна была добрым и верным другом моей бабушки. Она была начитанна, образованна, с ней интересно было разговаривать. Она рассказала мне, как однажды, когда в одну из смен в городе властей институток вывезли на Байкал, она встретилась там с двоюродным братом моего деда Ф.А.Матисеном. Он поразил девушек безупречными манерами и знанием языков, всем своим интеллигентным видом. И она помнит, как он с большим уважением рассказывал о своем друге А.В.Колчаке. 0 Ф.А.Матисене будет написана следующая глава.
Бабушка была внимательна и доброжелательна к дедушкиным пациентам. С некоторыми, особенно постоянными, была в приятельских отношениях. Она рассказывала об одном из таких своих приятелей , старике немце Вонцихе. Это был одинокий странный человечек. Он обычно, приходя к доктору, приносил с собой список вопросов на длинном листе, чтобы не забыть задать их. Вопросы были разные, касающиеся здоровья и "философские". Бабушку привел в восторг один из волновавших Вонциха вопросов: "Что делать, если ночью скребутся мыши - смириться или возмущаться?" Эта фраза даже прижилась в нашей семье. Я и сейчас иногда ее произношу, если не знаю, как ответить себе на какой-нибудь вопрос. Знал бы об этом покойный немец Вонцих.
Моя бабушка была очень терпима к людям, воспринимала их такими, какие они есть, умела всех понять. Поэтому среди ее друзей были иногда совсем удивительные личности. Например, старик-нищий. Это было в начале советского времени. Он иногда приходил в дом, бабушка угощала его на кухне "чем Бог послал", а он рассказывал ей о своей жизни, о том, как "не из простых" оказался нищим. Его рассказ всегда заканчивался одним и тем же изречением: "Не жизнь, а одно сплошное страданье, дорогая Анна Викторовна". Эти слова тоже стали летучей фразой в нашей семье. Даже сейчас мы с сестрой в лихие минуты повторяем: "Не жизнь, а одно сплошное страданье, дорогая Анна Викторовна". Моя мама рассказывала мне, что она помнит один единственный случай, когда бабушка "вышла из себя" и даже "хватила" тарелкой об пол. Это произошло, когда кто-то в семье посмеялся над бабушкиной дружбой с этим нищим. Она заявила: "Это - мой нищий, и я буду принимать его у себя!". С тех пор все смирились и называли его "мамин нищий".
После отечественной войны недалеко от нашего дома, за углом, на улице Декабрьских Событий жила полусумасшедшая старая дева. Она всегда одевалась "как барыня" - в рваные кружева, ленты, шляпки, и водила на разноцветных лентах целую свору подобранных на улице разнокалиберных собак. Они с лаем тянули в разные стороны, а она еле поспевала за ними. Взрослое население смотрело на "барыню" косо, а мальчишки бегали за ней с криками и смехом. Она ни на кого не обращала внимания, но издали начинала приветливо улыбаться моей бабушке. Останавливалась, утихомиривала свою свору, о они подолгу о чем-то мирно беседовали.
У бабушки были добрые приятели и среди крестьян, у которых она покупала на базаре мясо и молоко. Бабушка никогда не произносила слово "колхозник", так же, как она не признавала новых названий иркутских улиц, а всегда называла их по- старому. Она умела доброжелательно общаться и с крестьянами, при этом ей не надо было специально приспосабливаться. Это было просто и естественно. Ее же в свою очередь очень почитали. А однажды (мне рассказал об этом случае, произошедшем в его юности, мой дядя Сережа) бабушка вернулась с базара смущенная, раскрасневшаяся, сжимая в кулаке скомканную бумажку. Это была записка, которую сунул вместе со сдачей бабушке в руку один из торговцев мясом: "Барыня, я тебя люблю". Бабушка страдальчески спросила: "Что же мне теперь делать, Сереженька?" Он успокоил ее, посоветовав покупать мясо на базаре у другого продавца. Рассказав мне эту историю, дядя Сережа с заблестевшими глазами произнес: "Милая мамочка, она была, как дитя". Позже, в военные голодные годы бабушкины приятели-крестьяне иногда помогали нам, завозя по пути на базар деревенские гостинцы: круглые замороженные булки хлеба ( я помню, как они пахли - холщовым мешком и сеном из саней), кружки мороженого молока. У этого молока мы сначала съедали самое вкусное - намерзшие сверху горкой жирные, таявшие во рту сливки, срезая их ножом. Потом ложкой выскребали низ кружка - там было самое сладкое молоко. А потом уже растаивалось и выпивалось то, что оставалось от кружка. Бабушка не только не запрещала нам такую расправу с молоком, но сама очень любила так лакомиться вместе с нами. А больше всего я помню необыкновенное деревенское лакомство - творожок, смешанный со сметаной и замороженный на противне в виде остроконечных конфеток. Это казалось сказочно вкусным.
Моя бабушка была сластеной. Самым любимым ее лакомством была халва. Очень она любила еще сгущенное молоко. Когда после войны все это стало возможно покупать, бабушка приносила из магазина большой кусок халвы или литровую банку сгущенного молока (оно продавалось на развес), звала нас, и мы все набрасывались и тут же съедали все это. Бабушка здесь была с нами наравных..
Май 2005 г. – февраль 2006 г.
г.Иркутск.