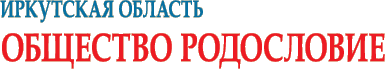Земля и корни (Н.Н. Михайлова)
Детство. Из всей прожитой моей жизни оно вспоминается наиболее ярко и отчетливо. Хорошо помнятся люди, меня окружавшие, дом, где я росла, многие события, мои детские чувства и ощущения, даже звуки и запахи, наполнявшие тогда мир.
На эти воспоминания душа откликается теплотой и радостью. И так не хочется, чтобы все это когда-нибудь ушло навсегда. Поэтому и решилась писать. Может быть кто-нибудь из моих близких когда-нибудь прочтет это «писание». Хочется, чтобы у читающего пробудились интерес и добрые чувства к своим предкам.
Глава 11. Соседи
Я очень хорошо помню всех жильцов, населявших наш двор. Люди жили в своих квартирах в основном подолгу, иногда всю жизнь. Умирали старики, рождались дети, появлялись новые семьи. Все хорошо знали друг друга. Когда началась война, и жильцов стали «уплотнять», появились новые люди. Некоторые из них уехали после победы, а многие остались навсегда. Потом, в 60 – 70- х годах, когда Иркутск стал строить жилье, наши соседи начали постепенно разъезжаться, получая благоустроенные квартиры. В 1966 году на другую квартиру уехали и мы. Несколько семей осталось и живут там до сих пор. Я иногда бываю в своем старом дворе. Но эти посещения наводят на меня грусть: все там очень переменилось. Дома стареют, рушится деревянное кружево, балкон давно упал, и на его месте – залатанная фанерой дыра. Наш «садик» кто-то превратил в безобразную, отгороженную ржавыми железными листами стоянку для автомобиля. Мои любимые тополя спилены. Вокруг наших домов воздвигнуты высокие каменные строения, от чего они кажутся совсем маленькими. Но благодаря этому строительству бывшие наши дома теперь стали благоустроенными, проведено горячее и холодное водоснабжение, канализация. Русские печи разломаны, и на их месте устроены ванные комнаты. В основном живут новые, незнакомее люди.
В нашем дворе народу было много. По-соседски жили разные люди: разных национальностей, интеллигентные и совсем простые, состоятельные и победнее, образованные и не очень, рабочие, служащие, много жило врачей различных специальностей. Всегда было много детей, не менее 10 -15 человек разных возрастов. Но в отношениях людей национальные и социальные различия не подчеркивались. Жили дружно, поддерживая и помогая друг другу. Дети тоже дружили между собой, не зная никаких различий. Часто бывали друг у друга дома. Я и сейчас могу ясно вспомнить, кто в каких домах жил.
Может быть потому, что владельцем наших домов был когда-то еврей Бромзон, во дворе жило много еврейских семей. Самого Бромзона и его детей я не застала. Думаю, их постигла печальная участь. В моем раннем детстве у нас во дворе жила только жена Бромзона. Ее все звали Бромзонихой. Это была одинокая маленькая, худая, серенькая старушка, тихая, прибитая жизнью. Помню, что голова ее была всегда покрыта черным платком. Она обитала в одной из комнат своего бывшего дома. Комнатка была крохотная, узкая, с одним окном, на первом этаже, без печки. Бромзониха как-то тихо и незаметно ушла из жизни. Во всяком случае, я не помню ее похорон.
В одном из домов, выходящих на улицу, жило многочисленное еврейское семейство Крисс. Они занимали несколько комнат на первом этаже, в том числе и темную, упиравшуюся окнами в стену соседнего дома. Сам Крисс служил где-то бухгалтером. Его жену дети во дворе звали Крысихой. Толстая, крикливая, неряшливая, всегда в длинном грязном фартуке, вечно занятая стиркой и готовкой. Крики ее были громкие, но беззлобные. Ее собственных детей они нисколько не пугали, они воспринимали их как должное. У Крысихи было шестеро сыновей. Дворовые ребята звали их Крысами (вообще у всех почти мальчишек во дворе были прозвища; мой брат Вовка, например, по первому слогу его фамилии имел прозвище Бес). Старший сын Крысихи, Додка, был уже женат, и с ним жила его русская жена Катя. Левка, Борька и Мишка, когда я их помню, были подростками, и их жизнь была далека от меня. А младшие, Моська и Самонька, были одного возраста с моим братом., то-есть на пять – шесть лет старше меня. Моська и Самонька, несмотря на строгость их отца и крики матери, были хулиганистыми, Я помню, моя бабушка волновалась, что друживший с ними Вовка научится у них плохому. Они, действительно, научили его курить и материться. Матом он с возрастом научился управлять, а привычка к курению у него осталась на взрослую жизнь. Во время войны Криссы уехали из нашего двора. Потом, уже через много лет, я прочитала в газете, что один из «Крыс», то ли Моська, то ли Самонька, стал закройщиком на городской обувной фабрике, и газета хвалила его как знатного мастера.
Вместо Криссов в их квартиру в войну поселили цыганку, у которой было трое дочерей. Жили они очень бедно, в доме не было даже мебели. Я помню, однажды во двор зашла воровка, она постучалась к цыганам и открывшей ей девочке сказала, что, якобы ее послала их мама, которая стоит где-то в очереди, и просила ее принести все карточки. И девочка отдала все карточки. Это было в то время ужасно, так как карточки не восстанавливали. Я запомнила, как весь двор сочувствовал бедной рыдающей женщине.
На место цыган в 1950 году въехала семья Моргенштернов. Их было много: бабушка Елизавета Исааковна, ее дочь Блюма Исааковна с тремя детьми – Фаней, Рахилей и Марком. С ними жила еще незамужняя сестра Блюмы – Зися. У бабушки и Зиси фамилия была Фукс. Муж Блюмы погиб на фронте. Моргенштерны прочно поселились в нашем дворе. Я помню, Блюма была больна, у нее была астма. Она работала цветочницей-надомницей в какой-то мастерской. Часто летом выходила на крылечко во двор со своей рабочей коробкой. В ней были заготовки для разных цветов из бумаги и ткани. Был набор различных инструментов для изготовления резных, выпуклых и закручивающихся лепестков. Я всегда с интересом наблюдала, как ловко она собирала лепесточки и листики в ветки и букеты. Тогда ими модно было украшать платья, пальто и шляпы.
Старшей из детей была Фаня. Полная, немного флегматичная, смешливая. Она неловко бегала во время наших игр, но никогда от них не отказывалась. Марка был средним по возрасту. Он был быстрый и ловкий, обязательный участник и заводила в играх. А Рахилька – младшая. Они с сестрой совсем не были похожи, разве что темными волнистыми волосами. Рахилька была худенькая и высокая. Один глаз у нее чуть-чуть косил, и она смотрела не прямо на тебя, а чуть боком. Она была застенчивая. Мы звали ее Роха. Однажды одна из соседок сказала ей: «У тебя такое красивое библейское имя – Рахиль. Тебе не обидно, что тебя зовут так некрасиво – Роха?» Она , как обычно, чуть повернула голову, застенчиво засмеялась и ответила: «А мне нравится. Пусть зовут».
Моргенштерновские ребята были близкого мне возраста. С ними и другими ребятами прошло все мое послевоенное детство, юность. К ним приходил иногда их двоюродный брат, Арик, очень красивый мальчик. Он стал потом известным в Иркутске врачом-кардиологом.
Фаня выучилась на фармацевта. Марка окончил сначала лесотехнический техникум, потом политехнический институт. Роха окончила институт иностранных языков. После смерти бабушки Моргенштерны с детьми и внуками постепенно все уехали в Израиль и сейчас живут там.
Рядом с Криссами, а потом Моргенштернами в небольшой комнате с окошками, выходившими во двор, жили тоже евреи, муж и жена Школьники. Сам школьник Исаак Соломонович был портным, шил пальто и шубы частным образом на дому. Он не часто появлялся во дворе, только, бывало, тащит ведро на помойку или топливо для печи. Редко с кем разговаривал, в основном, с моей бабушкой. Но я помню, однажды этот тихий человек проявил прямо-таки свирепость. Дети, играя в волейбол, обычно натягивали сетку поперек двора между домами. В этом месте как раз находились окна Школьников и наши. В одну из игр (среди играющих были ребята возраста моего брата, но двор был полон болельщиками всех возрастов) удачным ударом мяча со звоном было высажено стекло в окне Школьников. Исаак Соломонович вбежал во двор, бледный от гнева, что-то кричал по-еврейски. И вдруг двумя цепкими руками начал рвать нашу старенькую сетку. Двор молча и обреченно наблюдал за этими действиями. Но тут на помощь явилась моя бабушка. Она услышала звон стекла и стенания Исаака Соломоновича и выбежала во двор. Ей удалось остановить уничтожение сетки. Она пообещала, что примет меры ( а она у нас во дворе была единогласно избрана вечным домкомом) по вставлению стекла. Все успокоилось, дыры в сетке были кое-как залатаны веревками, и даже продолжилась игра.
Жена Школьника, Софья Ефимовна, была маленькая, с широкими бедрами, спокойная женщина. Я помню ее всегда с крючком в руках или в открытом окошке, или на скамеечке под окном. Из обрезков тканей, из которых ее муж шил пальто, она вырезала разноцветные кружочки. Потом обвязывала их крючком и связывала между собой, собирая в разноцветные узоры. У них в комнате из этих кружочков было сделано почти все: скатерти на круглом столе и комоде, покрывало на кровати, коврик над кроватью. Софья Ефимовна прожила долго, намного пережив своего мужа.
Второй этаж этого дома занимали две семьи. В комнатах с окнами, выходившими на улицу, жили Герасимовы. А в комнатах с окнами во двор – Федоренко.
Глава семейства Герасимовых, Лаврентий Денисович, был зубной врач-протезист, работал в поликлинике авиазавода во 2-м Иркутске, в женской консультации, практиковал частно. Он был высокий, с красивой седой шевелюрой. Интеллигентный человек. Его жена Екатерина Андреевна всю жизнь проработала акушеркой во 2-м Иркутском роддоме на улице 2-й Красноармейской (здесь рожала всех своих детей и моя мама). Эта крупная женщина была властной, уверенной в себе. У Герасимовых было три дочери и сын, который умер мальчиком. Донгина, ее во дворе и дома называли Диной, и Мила были много старше меня. А младшая, Женя, ее называли Жужутой, - ровесница моего брата. Старшие дочери вышли замуж и уехали из Иркутска. Дина была замужем за военным. Ее сын Юра Ружников жил некоторое время у бабушки и дедушки в нашем дворе. Приветливый добрый мальчик. Он принадлежал к поколению «малышни», у которой был уже свой круг друзей и свои занятия и игры. Юра стал врачом-психиатром. Его сын Александр пошел по стезе отца - врач-психиатр, кандидат медицинских наук. У Юры есть уже внучка Полина пяти лет.
Мила тоже окончила медицинский институт, работала в тубдиспансере. Сейчас ей 78 лен. Живет в Москве. У неё сын Валентин.
Жужуту я знаю лучше, чем старших сестер. Хотя она как-то мало общалась с ребятами во дворе, была немножко замкнутая. Она – самая женственная и красивая из сестер. Жужута окончила биофак Иркутского университета. Она занималась интересной работой – определением возраста Земли по изучению месторождений на Байкале. У нее – сын Вася Дробков и внучка Катя, студентка Экономической академии. Сама она – на пенсии. Жужута с сыном и внучкой до сих пор живут в своей старой квартире на улице Дзержинского, правда, теперь благоустроенной.
В семье Федоренко было три человека. Отец, Аркадий Кириллович, мать, Татьяна Иудовна и сын Севка. Аркадий Кириллович был врач-терапевт, работал в железнодорожной поликлинике. Я помню, как вечером он возвращался с работы с чемоданчиком, проходил по деревянному тротуарчику вдоль дома и поднимался на свое крыльцо. С жильцами он мало общался, но был приветлив и всегда здоровался с детьми. Зато жену его хорошо знал весь двор. Она относилась к нам, детям, благосклонно. Ее крыльцо из трех ступеней до самого вечера освещалось солнцем, и поэтому мы любили на нем играть. В ненастную погоду нам разрешалось даже играть на ее деревянной чистенькой лестничной площадке с окошком, выходившим во двор. Тетя Таня имела привычку, высунувшись в это окошко, наблюдать за жизнью соседей, знала все обо всех. Не прочь была посудачить, нередко громко перебранивалась с соседями по каким-то житейским пустякам. В гостях у нее, кроме моей бабушки, по-моему, никто из двора не бывал. К бабушке она относилась уважительно и иногда звала ее в гости. Она была чистоплотная и хороша хозяйка. Во время войны она пошла работать и некоторое время шоферила на грузовике «на чурках». Потом она долго работала в кинотеатре «Пионер». Когда я бывала там, тетя Таня отрывала контроль на моем билетике.
Тетя Таня жива до сих пор, ей пошел девяносто второй год. И живет она в своей старой квартире.
Ее сын Севка, немного помладше меня, был активным участником и заводилой наших игр. Он окончил Иркутский политехнический институт по промышленно-аграрному строительству и работал в Агростройпроекте. Сейчас он – пенсионер, живет с матерью. У него два взрослых сына, Виктор и Денис. Оба имеют высшее образование – строители. У Севы два внука – Кирилл и Игнат.
Весь первый этаж второго дома, стоявшего вдоль улицы, до войны занимала наша семья. Я уже подробно описала устройство и быт нашего жилища. Перед войной, когда младший мамин брат Владимир и его жена Тамара уехали на Балхаш, в их бывшую комнатку заселили Клару Уманскую. Это была рыжая кудрявая еврейка. Она картавила на букву «р», произнося ее раскатисто где-то внутри рта. Ее муж тогда был репрессирован, и она жила с сыном Аркой, тоже очень рыжим и кудрявым мальчиком, моим ровесником. В начале июня 1941 года к Кларе из Киева приезжала ее мать. И она увезла Арку к себе погостить. Почти сразу грянула война. И Арка, и мать Клары сгинули, неведомо куда. Клара так ничего и не узнала об их судьбе. Я помню, как Клара часто гладила меня по голове и говорила: «Вот сейчас у меня такой же был бы Арка». В пятидесятых годах вернулся реабилитированный Кларин муж, Михаил. Он был большой, вальяжный, хорошо одет. Парикмахер, классный мастер по дамским прическам, он, видимо, совсем не плохо провел годы своего заключения. У них с Кларой вскоре родилась девочка. Клара была счастлива, и вдруг выяснилось, что ребенок не слышит. Дочь выросла глухонемым ребенком, училась в школе для глухонемых детей. Уманские уехали из нашего двора. Те из соседей, кто встречался с Кларой, рассказывали, что живет она неважно, муж плохо к ней относится. Такая печальная сложилась у нее судьба.
В первый же год войны нас «уплотнили», поселив рядом с нами Шестаковых, семью из деревни. Им была отдана комната, в которой до этого жили мы с папой и мамой, и мы лишились парадного входа. Теперь вход у нас был только через кухню. Так как кухня и уборная были на нашей территории, то многие годы Шестаковы свободно ходили через нашу квартиру, комнаты в которой никогда не закрывались, а одна была проходной. Только после войны им из нашей бывшей прихожей соорудили кухню, вставив в голландскую печь плиту. Но и тогда дверь между нашими квартирами не была закрыта, а отгорожена поставленным углом буфетом. Он стоял так, что за него можно было пролезть. И мы с шестаковскими ребятами частенько пролезали друг к другу.
У дяди Вани и тети Маруси ( их и еще тетю Таню Федоренко дети во дворе называли дядей и тетями, всех остальных называли по имени и отчеству), когда они приехали, было трое детей: Юрка – мой ровесник, средний Валерик и совсем маленькая, ей не было и года, Римка. Я помню, как Римка ползала по столу. Валерик потом умер от дифтерии. Странно, но никто из шестаковских детей и из нас не заразился и не заболел.
Когда мама родила мою младшую сестру, тогда же тетя Маруся родила сына Женьку. Он младше сестры на один день. Потом у Шестаковых родились еще две дочери, Таня и Наташа.
Дядя Ваня шоферил на грузовой машине. У него была покалечена одна рука, поэтому на войну его не взяли. Он был тихий, спокойный, выпивал иногда, но и тут не скандалил. Только, бывало, негромко матюгнет кого-нибудь из домашних. Любил свою Марфу Афанасьевну и детей. Тетя Маруся нигде не работала, занимаясь многочисленным семейством.
Мы жили дружно. Несмотря на то, что Шестаковы ходили через нас и пользовались общей кухней и уборной, не было никаких «коммунальных» скандалов. Я думаю, в этом во многом заслуга моей миролюбивой и мудрой бабушки. Да и тетя Маруся была доброй и покладистой. Мы и не думали навешивать замки на свои комнаты. Все Шестаковы были воспитаны в духе христианского завета «не укради». Иногда, конечно, дети заимствовали игрушки друг друга, но в этом спокойно разбирались. Шестаковские ребята любили читать наши книжки, что бабушка им беспрепятственно разрешала.
Я помню, как мы с Юркой в войну на пару ходили на молочную кухню за детским питанием для наших маленьких братишки и сестренки. Молочная кухня была на улице 5-й Армии. Выстояв очередь и получив бутылочки с питанием (молоко, каша, еще какая-то смесь) и составив их в специально сшитые сумочки с узкими отделениями, мы возвращались домой по Большой улице. В эти годы мы оба всегда были голодные. Очень хотелось отхлебнуть из бутылочек. Я предлагала Юрке: «Давай сделаем всего один глоточек». Он всегда стойко отказывался. А я, каюсь, все-таки отпивала по маленькому глоточку из каких-нибудь бутылочек. Бабушка и мама, конечно, замечали это, но мне никто ничего даже не говорил. А мама иногда наливала для меня в стакан с кипятком немножко молока из Иркиного питания и с грустью смотрела, с каким наслаждением я пью этот чуть отдающий молоком «чай», кажущийся очень вкусным.
Я не помню серьезных ссор, тем более драк между детьми во дворе. Мы как-то обходились высовыванием языка, показыванием фиги и дразнилками. Но одну «схватку» с Юркой Шестаковым я запомнила. Не знаю, что мы с ним не поделили. Это было летом в нашем «садике». Мы держали друг друга за одежки на спинах и, вращаясь вокруг общей оси, пытались кулаками наносить удары сзади. У Юрки, конечно, это получалось лучше, и я готова была уже сдаться и зареветь. Но в это время я увидела маму в окне нашей кухни. Она грозила мне пальцем и приказывала: «Не реви! Не реви!». О, это удесятерило мою силу и ловкость. У Юрки выступили злые слезы, он вырвался и убежал. Мама преподала мне урок стойкости.
Дядя Ваня Шестаков по деревенской привычке в военные годы пытался организовать какое-нибудь хозяйство на заднем дворе. Они держали кур, свинью. Пытались сажать гряду картошки, но тонкий тощий слой земли не хотел давать там урожай. Однажды в начале лета дядя Ваня для какой-то надобности копал яму на заднем дворе. Яма была узкая и глубокая, он долбил ее ломом. И вдруг дядя Ваня с удивлением обратился к ребятам, игравшим рядом: «Смотрите-ка, там внизу лед!» Конечно все, в том числе и я, кинулись, чтобы увидеть лед летом. Когда я заглядывала в яму, дядя Ваня, чтобы лучше было видно, поднял лом вверх. И тяжелый лом пришелся прямо по центру моего лба. Удар не был сильным, мне не было очень больно. Но полилась кровь, и дядя Ваня со страхом заматерился на себя. Я побежала к бабушке, дядя Ваня и дети – следом. Бабушка без всякой паники осмотрела ранку, прижгла йодом. И, как когда-то дед, сказала: «Ничего делать не надо. Само заживет». Ранка зажила. Но на лбу у меня остался дяди-Ванин след в виде небольшого косого шрамика.
Одна комната, хоть и большая (они ее перегородили стенкой), была явно мала для семьи Шестаковых. Они поменяли ее на квартиру побольше, и одними из первых, где-то в пятидесятых годах, уехали из нашего двора на улицу Чехова. Но связь с нашим двором они не прерывали. С Риммой я встречаюсь и перезваниваюсь. Мы всегда радуемся нашим встречам. А однажды она собрала у себя дома бывших детей нашего двора. Нас пришло семь человек. Мы встретились как родные и долго вспоминали наше общее детство.
Все дети Шестаковых окончили среднюю школу.
Юра, окончив Бугурусланское летное училище, летал пилотом на АН-2. Он женился на подруге своей старшей сестры: Неля окончила институт иностранных языков и аспирантуру. У него две взрослые дочери, Елена и Лариса. Обе они получили образование в иркутском Нархозе. Старшая – начальник налоговой инспекции Иркутского района, а вторая – заместитель начальника областной налоговой инспекции. Обе имеют высокие звания: Елена – подполковник, а Лариса – аж генерал налоговой службы. У Юры двое внуков: Алина семнадцати лет и четырехлетний Максим. С Юрой случилось несчастье. На каком-то воскреснике, когда разбирался старый деревянный дом, на него упала балка и сильно повредила ему позвоночник. Уже много лет – он тяжелый инвалид.
Рима окончила иркутский институт иностранных языков и была оставлена там работать. Потом перешла на работу в Иркутский областной Государственный Архив; последние годы работала в областном партийном архиве. Сейчас – она на пенсии. Ее муж Владимир Розенталь – машинист автокрана. У них, как и у Юры, две дочери. Старшая, Марина – в налоговой службе, у нее сын Антон 16-ти лет и дочка Аня 8-ми лет. Младшая дочь Риммы, Вера, окончила медицинский институт. Ее сыновья: Иван учится в 11 классе и Миша – первоклассник.
Женя Шестаков, окончив училище гражданской авиации, работал техником в аэропорту. Потом он учился в Высшей партийной школе и стал работать по комсомольской, а потом партийной линии, сначала в Иркутском Обкоме ВЛКСМ, затем – в Горкоме партии. Когда началась «перестройка», он ушел на преподавательскую работу. Сейчас он – на пенсии. Его жена, Надежда Константиновна – начальник Архивного управления Иркутской областной администрации. Она в своё время очень помогла мне с устройством архива писателя Ю.Н.Бессонова, моего дяди. У Жени две дочери: Инна – работник Областной администрации и Оксана – частной фирмы. И два внука: Женя 13 –ти лет и восьмилетний Игорь.
У Тани Шестаковой жизнь не сложилась. Окончив школу, она не захотела дальше ничему учиться, пошла работать официанткой в столовую. Пристрастилась к выпивке. Теперь ее уже нет в живых.
Самая младшая из детей Шестаковых, Наташа, тоже осталась без специальности, работала в разных местах. Муж ее оказался пьяницей, она разошлась с ним, оставшись с сыном Костей.
Самих дяди Вани и тети Маруси давно нет на земле.
Маленькая комната рядом с кухней у нас тоже была изъята во время войны. Сначала в ней жила эвакуированная семья с Украины. Не помню их фамилии. Муж был инженером на авиационном заводе и имел бронь от Армии. Жену его я почти не помню. У них был мальчик помладше меня, который, видимо, скучая о доме, часто повторял: «А у нас у Дергачах не так, как у вас». Произносил это с характерным украинским «г». Сразу после войны они уехали.
Потом какое-то время там жил одинокий офицер, Иван Николаевич. Он очень любил нас, детей, особенно Ирку. Она радостно висла на нем, когда он возвращался домой. Звала его Коляич. Он приносил нам гостинцы, больше шоколад. Он очень часто напивался и приходил домой, как он сам выражался «на четырех костях». Бабушке нравилось, что на следующий день он был «как стеклышко», тщательно приводил в порядок себя и свою офицерскую форму (по-моему, он был капитан). Он говорил бабушке: «Анна Викторовна, мне надо срочно жениться, а то - сопьюсь». Бабушка его очень поддерживала в этом. И вот Коляич привел жену Юлю, которая нам всем очень понравилась. Скоро они уехали от нас, получив в коммуналке комнату побольше. Я, помню, бывала у Юли в гостях, и она сделала мне подарок – немецкую круглую пластмассовую мыльницу с розовым душистым круглым же мылом. Это тогда было редкостью. Я долго хранила это мыло, не пользовалась им, а только нюхала, открыв красивую крышечку.
Последней, кто занимал эту нашу комнату, была еврейка Берта. На заднем дворе у нас жила ее подружка, которая сосватала Берту за своего знакомого. А так как жить им было негде, то она уговорила мою бабушку пустить молодоженов на квартиру на время. Моя сердобольная бабушка согласилась. Берта и ее муж Сеня поселились у нас. Сеня был щуплый, рыжий, совершенно безобидный, он где-то работал. А Берта была большая, гораздо крупнее Сени, с уродливой фигурой, но очень красивым ярким лицом, прекрасной густой и длинной косой. Она не работала, специальности у нее никакой не было. Вскоре у них родился сын. Конечно, ни о какой любви между Сеней и Бертой и говорить не приходилось. Они стали ссориться, даже иногда дрались, при этом побеждала Берта. Сеня потом грустно сидел у плиты на кухне, а Берта выходила и с ядовитой улыбкой, издевательски приставала к нему: «Сеня…. А, Сеня…..» Было видно, что бедный Сеня клокотал от обиды и злости. Конечно , Сеня сбежал от такой жизни. Берта осталась одна с мальчишкой, без работы. Есть ей было нечего. Она часто надолго уходила куда-то, оставив ребенка, и он надрывно плакал. Берта была нечиста на руку. Я видела, когда не было дома бабушки, как она наливала себе суп из нашей кастрюли, иногда отсыпала крупу, макароны. А однажды я услышала, как она вошла в мамину комнату, там скрипнула дверца комода. Я знала, что взять там нечего, кроме кусочка шелка, который прислал мне в подарок дядя Сережа. Когда Берта вышла, кутаясь в платок, я сразу же стала искать этот шелк, конечно, его не было. Я побежала на кухню: «Бабушка! Берта украла мой шелк! Иди посмотри!» К моему удивлению, бабушка даже не возмутилась, она только произнесла: «Голод – не тетка». Но когда я рассказала об этом маме, та, упрекнув бабушку в мягкотелости, заявила: «Чтобы ноги ее здесь больше не было!» Не тут-то было. Уходить Берта не собиралась, ей просто было некуда. Маме пришлось подать в суд. И только потому, что Берта не была прописана, да еще у нас была проходная комната, постановили ее выселить. Суд тянулся долго, и все это время совсем распоясовшаяся Берта уже ни в чем не стеснялась. Мы все радостно вздохнули, когда она, наконец, уехала
На втором этаже нашего дома, в той его части, окна которой выходили на улицу, и где был парадный вход, жили Ротфарбы. Борис Романович работал снабженцем в конторе, которая называлась «Холбос», это был якутский союз кооператоров. Его жена, Елена Романовна, была зубным врачом во 2-й поликлинике. Когда у мамы во время дистрофии начали качаться зубы, она ходила выдирать их сразу по нескольку штук к Елене Михайловне. Мама говорила, что делает она это очень ловко и безболезненно. У Елены Михайловны умерли сестра и ее муж, и она взяла к себе на воспитание двоих племянников, Софу и Генку Гельбарт. Генка был одного возраста с моим братом, а Софа старше. У Генки была кличка « Гес». Их с моим братом так и звали Бес и Гес. Племянники называли Елену Михайловну «тетка Хлоя» (прочитав «Хижину дяди Тома»), а если сердились на нее, за глаза называли Хлойкой. А Бориса Романовича звали «дядька Борис». Вообще они любили своих тетку и дядьку. А те относились к ним, как к родным детям. Ротфарбы всегда жили в достатке, даже в войну. Мне нравилась Елена Михайловна. Она была простая, веселая, когда смеялась, то открывалось много блестящих золотых зубов. Она ярко красила губы. Носила короткую стрижку сначала черных, а потом седых волос. На ней всегда были шелковые платья, красивые туфли на высоких каблуках. Она надевала золотые серьги, кольца, и от нее всегда великолепно пахло дорогими духами («Красной Москвой» или «Кремлем»). Она любила приходить к моей бабушке и. развалясь на нашем диване, подолгу болтать о чем-нибудь.
На улице Декабрьских Событий жили какие-то родственники Ротфарбов. Сидя на скамеечке у ворот, я часто любовалась Еленой Михайловной, когда она шла к родственникам. Выйдя из дома, она почему-то всегда переходила на противоположную сторону нашей улицы. Глядя на нее, я втайне мечтала: «Вот, когда вырасту, буду так же красиво одеваться, носить золотые украшения и ходить по той стороне улицы». Почему-то ее привычка идти по «той стороне» улицы казалась мне тоже чем-то особенным. Жизнь Елены Михайловны представлялась мне верхом благополучия женщины.
Я любила и Софу, и Генку. Они были какие-то свойские, уютные, домашние. Я помню, Генка всегда ждал, когда моя бабушка будет стряпать в русской печи. Это было уже после войны, в те времена, когда бабушка снова начала стряпать. Он обязательно заявлялся, приговаривая, что пришел помогать «выгонять медведку» ( медведкой называли темные, непрогретые углы в печи; чтобы его «прогнать», надо было подгрести к углам красные горячие угли). Генка всегда просил у бабашки разрешения поработать клюкой в печке. Конечно же и первая проба доставалась Генке вместе с бабушкиными внуками
Софа выучилась на врача, вышла замуж и уехала из Иркутска. А Генка учился еще на геологическом факультете университета. Елена Михайловна заболела раком. Ей сделали операцию, но она быстро угасала. Генка часто ходил в аптеку за обезболивающим. Его давали только на один-два раза, иногда приходилось идти за ним и ночью. Тогда Генка просил меня составлять ему компанию, и мы шли с ним в темноте в
4-ю аптеку на улицу Карла Маркса. Уже после смерти Елены Михайловны Генка, окончив учебу, тоже уехал из Иркутска. Борис Романович прожил еще долго, даже женился.
Работая в НИИхиммаше, я в 80-х годах ездила на научную конференцию в Минск. Мы тогда обязательно в командировках ходили по магазинам, так как в нашем городе промтоваров купить было невозможно. И вот в Главном минском универмаге мы случайно повстречались с Генкой Гельбартом. Мы прямо бросились друг к другу от радости, словно родные. Он жил в Минске. Генка повел меня в гости. Я познакомилась с его женой и дочкой, тогда первоклассницей, мне даже подарили ее фотографию. В это же время в Минске оказалась и Софа, так что я повидалась и с ней. С тех пор мы не виделись.
Рядом с Ротфарбами на втором этаже нашего дома жили Ласточкины. Глава семейства Сергей Дмитриевич родился в Астрахани в семье священника. Он окончил с золотой медалью Санкт-Петербургский университет, юрист по образованию. В Иркутск приехал в 1920 году и работал в Иркутской коллегии адвокатов. Его жена Екатерина Лаврентьевна, была одной из двенадцати дочерей купца Кузнецова в Астрахани. У Ласточкиных было три сына: Дмитрий, Георгий и Борис. Дмитрий, средний, жил в Киеве, а старший Георгий – в городе Надеждинске. Там у них с женой Варварой Васильевной родилась в 1933 году дочь Елена. Когда дочка была совсем маленькой, отец умер. Варвара Васильевна с Лялей переехала жить к свекрам в Иркутск.
Я не знаю деда Ляли, Сергея Дмитриевича, а бабушку Екатерину Лаврентьевну помню очень хорошо. Это была какая-то величественная женщина, очень хорошо воспитанная. Даже в страшные в ее жизни годы у нее была красивая прическа из седых волос, и держалась она очень прямо и достойно. В войну у нее не стало ни одного зуба, и она всегда как-то особенно двигала губами
Варвару Васильевну я тоже почти не помню, она умерла в 1942 году, в самом начале войны.
В 1937 году в семье произошло несчастье. Был канун дня рождения Варвары Васильевны. Поздно вечером топили русскую печь и стряпали. В дом вошли посторонние люди, все перевернули, разбудили четырехлетнюю Ляльку, что-то искали в ее кроватке. Она очень испугалась. Потом увели с собой деда Сергея Дмитриевича. Вскоре он был расстрелян в Пивоварихе под Иркутском. Лялька с этих пор стала сильно заикаться.
Бориса взяли в Армию, мама умерла, и Лялька с бабушкой остались одни. Бабушку, как жену «врага народа», не брали на работу, хотя она знала несколько языков, могла преподавать. Не было у нее и продовольственной карточки. Они жили на крохотную Лялькину пенсию. Потом, когда Борис ушел на фронт, бабушка стала получать за него хлебную карточку. Лялька с бабушкой очень голодали, их стали заедать вши. Бабушка продавала все, что было можно, вплоть до пузырьков из-под лекарств. Был момент, когда бабушка от голода слегла. Она тогда сшила Ляльке сумку для подаяния и сказала: «Умру, не воруй. Проси у людей». Тогда их спас средний сын, Дима, прислав два куля картошки. Помогали, как могли, и соседи.
У Ласточкиных жила их дальняя родственница. Она была уже в возрасте. Звали ее Полиной. Я помню, что она всегда ходила в длинных темных платьях и платке на голове. Бабушка моя говорила, что Полина – староверка. Полина в войну умерла от голода и вшей.
Перед самой войной младший сын Ласточкиных, Борис, женился, его жену звали Тоней. Она устроилась на работу буфетчицей. Для Ляльки и бабушки она унесла из буфета мясо, кажется всего один килограмм. За это ей полагалась тюрьма. Я помню, когда Тоню пришли арестовывать, она выпрыгнула из окна второго этажа прямо на пожарную лестницу. Но ее все равно взяли и посадили, дали ей 10 лет.
Еще рядом с Ласточкиными жила Люся, дочь отчима Ляльки. В войну у нее родился мальчик. Он был на 2,5 года младше моей сестренки. Ира его очень любила, звала «Топка», потому что он, когда начал ходить, приговаривал: «Топ-топ». Я запомнила, как Топка переползал через наш высокий кухонный порог, и они играли с Ирой. Ира этого не помнит.
Борис уцелел на войне. Тоню он так и не дождался, женился. Жили они с женой трудно, не было ни еды, ни одежды, ни вещей, все было продано Лялькиной бабушкой. И Борис пошел на преступление – продал машину государственного зерна. Ему дали 10 лет, отсидел он 5.
Когда началась реабилитация, дед Ляльки был признан невинно осужденным. Бабушка стала получать пенсию за мужа 13 рублей 10 копеек (10 копеек она всегда отдавала почтальонше, приносившей деньги).
Хотя Лялька старше меня на три года, она была моей лучшей подругой во дворе. Вместе мы участвовали во всех затеваемых играх, были самыми активными и непременными их заводилами. И я, и она хорошо помним, как в детстве мы обе любили сильный летний дождь, грозу. Мы с ней всегда выскакивали во двор и прыгали по лужам, до ниточки промокая под тяжелыми гулкими струями дождя. Нас обеих охватывало радостное ликование, какой-то безумный восторг. Мы орали от счастья, когда полыхала молния, а потом раскатывался оглушительный гром. Когда из водосточных труб начинала хлестать вода, мы становились под сильные, крепко ударяющие потоки и наслаждались. Ни ей, ни мне это не запрещалось. Бабушки наши иногда наблюдали за нами из окон. Мне кажется, что моя бабушка нам даже немножко завидовала. Никто не боялся грозы. Я и сейчас люблю грозу; мне нравятся раскаты грома, разгул стихии. Правда, теперь я предпочитаю наблюдать за молниями и потоками ливня из окна квартиры.
Мы с Лялькой придумали свой «язык», чтобы другие его не понимали. Я говорила ей на этом языке: «Ляленция, пойдемция на задненция дворенция сиберенция стекленция». «Соберенция стекленция» на заднем дворе было одним из любимых занятий. Иногда Лялька звала меня: «Тусенция, пойдемция дразненция Шкидленция». В наш задний двор выходили окна дома, стоящего на улице Декабрьских Событий. Там на втором этаже жила девочка старше нас с Лялькой. Мы часто видели ее в окне ее комнаты, она любила петь, и нам видно было, как она вертится перед зеркальным шкафом, причесывая длинные красивые волосы. Лялька почему-то невзлюбила ее и звала Шкидлой. У меня к Шкидле никакой антипатии не было, но вслед за более старшей Лялькой я ходила под ее окно, и мы прыгали под ним, строили рожи и выкрикивали: «Шкидла! Шкидла!» Ее мама как-то пришла к моей бабушке и рассказала о наших проделках. Бабушка сразу же положила этому конец, объяснив нам, что никакая она не Шкидла, а уже почти взрослая девушка, а перед зеркалом мы с Лляькой скоро и сами начнем крутиться. И что нам за свое поведение должно быть просто стыдно. Я не помню, чтобы нам было стыдно, но дразниться мы перестали.
Перед войной у Ляльки появилась маленькая рыжая собачка Крошка. Она свободно бегала по двору и звонко лаяла. В городе были собачники, они ездили со специальной большой железной клеткой, в которую собирали собак, отлавливая их плетеным из веревки сачком. Они ловили не только бродячих собак, но часто охотились и за домашними. И вот однажды собачники прямо на глазах у Ляльки и, несмотря на ее громкие крики, стали гоняться с сачком за Крошкой. Тогда Лялька подбежала к клетке с уже пойманными собаками и откинула закрывавший ее дверцу крючок. Пленницы кинулись врассыпную, почуяв свободу, а Крошка, спасенная своей хозяйкой, удрала. Потом Лялькина бабушка в тайне от внучки отдала кому-то собачку, а ей сказала, что та потерялась. Лялька долго ходила по соседним улицам и дворам в поисках своей любимицы.
Лялька росла очень своенравной, вольной, не слушалась бабушку, хотя училась неплохо. Она по-настоящему дралась с мальчишками с улицы Бабушкина. В школе она не любила свою одноклассницу Таню Тумольскую за то, что та была отличницей. Таня с родителями жила на улице Бабушкина, недалеко от нас. И Лялька подкарауливала ее по дороге из школы, задиралась к ней, замахивалась и даже могла ударить ее школьной сумкой. Сейчас я понимаю, что Лялькино поведение – это был протест и самозащита ребенка, оставшегося без родителей, жившего в бедности, голодного, да еще ко всему сильно заикающегося. И Шкидлу она не любила по той же причине. В 3-м классе встал даже вопрос об исключении Ляльки из школы за хулиганство. Предстоял школьный педсовет. Мама Тани Тумольской была тогда председателем родительского комитета школы. Она вместе с Таней пришла к Ляльке домой поговорить с бабушкой. И Танина мама, умная и добрая женщина, поняла, что Ляльке нужно не наказание, а защита и помощь. На педагогическом совете она поручилась за «хулиганку» и сказала что берет над ней шефство. Это оказались не просто слова. Лялька стала бывать дома у Тани. Ее там и кормили, и воспитывали. Ляля и Таня стали настоящими подругами на всю жизнь. Дружат и сейчас, когда им за 70 лет. Ляля с благодарностью вспоминает Танину маму и считает, что с ней неизвестно что стало бы, если бы в ее судьбу не вмешалась Елизавета Михайловна Тумольская, жена крупного и известного в Иркутске геолога Л.М. Тумольского.
яля окончила 7 классов школы и пошла работать. Она устроилась курьером в Иркутский Госбанк, разносила бумаги по отделам. В банке к ней хорошо относились, Она стала заочно учиться в финансовом техникуме, окончила его. Ляля ( по детской привычке я так и зову ее до сих пор) проработала в Госбанке 43 года, и ушла на пенсию с должности начальника одного из отделов. Им с бабушкой дали благоустроенную комнату в банковской коммуналке. Позднее Ляля получила однокомнатную квартиру, но бабушке в ней уже не пришлось пожить.
Мы дружим с Лялей и довольно часто видимся.
Когда-то Ласточкины занимали в нашем доме четыре комнаты. Но когда арестовали дедушку, у них отняли три комнаты, оставив только одну, совсем маленькую. Я помню, в ней кое-как помещались, занимая все пространство, узкая кровать, сундучок, на котором спала Лялька, комод, этажерка и крохотный столик. Но бабушкиными усилиями в этой комнатке всегда было чисто и уютно. Мне нравилось бывать у Ляльки. А она любила показывать мне фотографии своей мамы и дяди Димы из Киева, доставая их из заветного ящика в комоде.
В одну из бывших «ласточкиных» маленьких комнаток вселили мать офицера, воевавшего на фронте. Ее звали Евдокия Никифоровна. Она была очень маленького роста, толстая и ужасно курносая. Во дворе ее прозвали Кубышка. Она была верующая, открыто ходила в церковь молиться, дома у нее были иконы. Кубышка была добрая и веселая. Все дети во дворе ее любили. Она часто водила нас летом на прогулку в лес. Соберет целую кучу детей разных возрастов, возьмет в руки сучковатую длинную, выше ее роста, палку, и мы все вместе пешком отправляемся на Каштак. Все родители Кубышке доверяли и отпускали нас с ней. Я очень любила эти прогулки. Кубышка всю дорогу рассказывала нам всякие истории, по-моему, они были из Библии и Нового Завета. Она не пыталась привлечь нас к вере, но все истории ее были очень нравоучительными. Мы обычно брали с собой нехитрую еду, жгли в лесу костер. Никого не боясь, бродили по лесу. Все очень любили собирать лесные цветы: жарки, колокольчики, розовые ландыши, белую ветреницу, кукушкины сапожки (они были рябенькие небольшие, но иногда встречались крупные бордовые и желтые с коричневым). Мы возвращались домой с большими букетами.
Евдокия Никифоровна всегда с гордостью говорила, что ее сын – полковник. Когда закончилась война, сын с женой и дочкой приехали навестить ее. Тогда в наш двор впервые въехала настоящая черная блестящая ЭмКа. Дети столпились около, разглядывая свое смешное искаженное отражение в полированных дверцах машины. Но самое большое любопытство, конечно, вызывал сам полковник. Я была разочарована. Я ожидала увидеть бравого высокого вояку, как тогда показывали в кино. А полковник оказался таким же маленьким, толстым и курносым, как его мать, и очень на нее походил.
В двух других бывших «ласточкиных» комнатах поселили Базаровых. Детей у них не было. Я плохо их помню. Только старуху Базариху, которую все мы, дети, не любили, потому что она стала запрещать нам сидеть на нашем «ласточкином» крыльце: «Не ходите на мой крылец!» Мы были ужасно возмущены: «Какой это ее крылец?! Это самое настоящее наше крыльцо, как и все остальные во дворе!». Это всегда и всеми было признано. Поэтому Базариху мы проигнорировали, и она, никем не поддержанная, вынуждена была смириться.
В 1953 году вместо Базаровых в нашем доме поселились Зубаревы: отец, мать и две девочки. Отец, Борис Матвеевич, был геолог, его жена, красивая, пышная, всегда разнаряженная женщина, работала товароведом в «Детском мире». Старшая дочь, Лариса, была одного возраста с моей сестрой, а младшая, Наташа, была еще совсем маленькая. Лариса с пятого класса стала учиться вместе с Ирой. Они очень подружились и дружили долгие годы. Лариса была красивой девочкой. Смуглая, с длинной толстой черной косой, рано сформировавшаяся. Ирка рядом с ней выглядела маленьким ребенком. Но это их дружбе никак не мешало. Когда у Иры родилась дочка, она назвала ее в честь подруги Ларисой.
В Ларису Зубареву чуть ли не с шестого класса влюбился Валька Воронин. Он жил не в нашем дворе, а в соседнем, ближе к улице Декабрьских Событий. Там у него сверстников не было, и он всегда играл с нами. Услышав звук мяча или смех в нашем дворе, он обязательно перелезал к нам через каменную стену, разделявшую дворы. Мы его принимали как своего. Ни одна игра не обходилась без Вальки. Если он сам почему-то не появлялся, мы громко хором звали его играть. Он был ловкий, быстрый, хорошо играл в волейбол, здорово забивал «свечи» в лапту. Он буквально стал преследовать Ларису своим вниманием.
Окончив школу, Лариса поступила в университет на геологический факультет. В геологи подался и Валька Воронин. Отца Ларисы перевели на работу в Улан-Удэ, и он с женой и Наташей уехал. Лариса некоторое время жила одна. Потом Зубарева назначили заместителем министра геологии СССР. И они все в начале 60-х годов уехали в Москву.
Валька все-таки женился на Ларисе и тоже поселился в Москве, где свёкор пристроил его работать в министерстве. Но жизнь у них с Ларисой не сложилась, детей они не завели. Лариса стала геологом, ездила в партии. Потом она заболела, видимо, постоянно простужаясь в партиях, и стала жить в Москве. Они с Ирой долго еще переписывались.
В правой половине первого этажа внутреннего дома нашего двора жила семья Фромбергов. Их потомки живут там и сейчас. Фромбергов в моем детстве было трое. Сам Фромберг Михаил Аронович был каким-то конторским служащим, то ли бухгалтером, то ли экономистом. Его жена, Елена Яковлевна – зубным врачом. У них был сын Гриша (Гринька – так звала его мать, а во дворе он был Гришка).
Михаил Аронович был маленький человечек, худенький. Вид имел очень интеллигентный, всегда был аккуратно одет, обязательно в рубашку с галстуком. Достопримечательностью было то, что он носил пенсне (тогда это было довольно редко, почти все носили очки с дужками) и кепи старинного вида – с узкой тульей и длинным козырьком. Он был очень приветлив и доброжелателен со всеми.
У Елены Яковлевны была базедова болезнь. Из-за нее она вела прием больных на дому; в одной из комнат у окна стояло «зубное» кресло. Позднее, когда болезнь стала прогрессировать, она перестала принимать больных. Глаза у Елены Яковлевны сильно выпучились. Иногда ей даже мешали ресницы, и они приклеивались к векам пластырем. Еще у нее были очень кривые ноги, почти колесом, и она носила платья почти до пола. Стесняясь своего вида, Елена Яковлевна не выходила из дома. Общением с миром было окно ее комнаты, у которого она проводила много времени. Чтобы расширить фронт обзора, она всегда просила кого-нибудь из детей открыть ворота, и они часто стояли настежь. Все знали, что это – для Елены Яковлевны, и не возражали. Вообще все во дворе, в том числе и дети, относились к ней с добрым пониманием.
Елена Яковлевна любила меня. Она частенько зазывала меня в гости, чем-нибудь угощала. Любила расспрашивать меня про школу, про мои дела, даже про сердечные, когда я повзрослела. Чувствуя ее расположение ко мне, я была с ней довольно откровенна.
У Михаила Ароновича где-то за границей, кажется в Англии, жила сестра, которая с семьей эмигрировала после революции. Он изредка получал от сестры письма. Всегда зачитывал моей бабушке интересные места. Я помню, однажды его сестра писала: «Мы с домработницей стираем. Она крутит ручку стиральной машины, а я развешиваю белье».
Мы с бабушкой восхитились тогда (это было во время войны) техническим прогрессом за границей. У нас стирали белье в оцинкованной ванне, терли его руками на стиральной доске. А в нашей семье тогда и вовсе не было ни того, ни другого.
Весь двор, в том числе и Елена Яковлевна, знал, что у Михаила Ароновича есть сердечная подруга. Это была приятного вида женщина. Она приходила вечером или в выходной день в определенное время и садилась на лавочку за воротами, во двор никогда не входила. Через некоторое время Михаил Аронович выходил из дома, и они под руку удалялись. Елена Яковлевна иногда просила меня: «Сбегай, посмотри, она уже сидит на лавочке?» Никаким именем Елена Яковлевна эту женщину не называла. Я шла за ворота, а потом докладывала, как обстоят дела. Сейчас я понимаю, какая печальная и безвыходная была жизнь у Елены Яковлевны, но она с ней мирилась. Дружба Михаила Ароновича с его дамой сердца продолжалась до самой кончины его жены. Правда, к Елене Яковлевне он относился с добротой и уважением. Они оба никогда перед двором не обнаруживали сложность своих взаимоотношений.
Гринька был немного старше моего брата. Он был нелюдимым, замкнутым, носил сильные очки, у него бывали какие-то приступы. Елена Яковлевна родила его вопреки советам врачей не иметь детей. Он никогда не принимал участия в дворовых играх. Учиться ему было трудно, и он закончил всего несколько классов. Потом он пошел работать разнорабочим. Женился, у них с женой Дусей родился сын Вадим. Его семья и сейчас живет в бывшей квартире Фромбергов.
Маленькую комнату рядом с Фромбергами, с окошком, выходящим на задний двор, и входом через большую общую кухню занимали муж и жена с интересной фамилией Хмуро. Жена (не помню ее имени) была тихая, скромная, деревенского вида женщина. А Иван Алексеевич Хмуро был уличным электромонтером. Он всегда носил с собой большие железные «когти» для лазания на деревянные электрические столбы. В конце дня он, тяжело ступая, в грубых сапогах, с «когтями» через плечо и с большими клещами за широким кожаным поясом шел через передний двор в свою комнатку на заднем дворе. Я помню, как Лялька, я, а за нами и моя младшая сестренка, сидя на лавочке в садике, громко пели вслед проходящему Хмуро: «На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят…» и хихикали. Иван Алексеевич не обращал никакого внимания на несмышленых девчонок. Мы как-то попросили Хмуро показать нам, как это он влезает на столб. И он согласился. Он, как лыжи, надел на кирзовые с толстыми подошвами сапоги железные полукруглые с острыми выступами внутри «когти». Чтобы влезть на столб, он сначала обхватил одним «когтем» круглый столб, сильным ударом ноги вбив в него острия. Укрепив таким образом на столбе одну ногу, он точно так же укрепил повыше вторую ногу. Чтобы шагать дальше вверх по столбу, ему пришлось с усилием вытащить из столба шипы «когтей» ни нижней ноге, и перенести ее выше второй ноги, на «когте» которой он стоял. И так постепенно, повторяя эту операцию поочередно то одной, то второй ногой, начал медленно подниматься вверх. Наверху он прикрепил себя к столбу железной цепью. На нем были большие резиновые перчатки. Он вынул из-за пояса тяжелый инструмент и, стоя на «когтях» стал что-то ладить на столбе. Я тогда увидела, какая у него трудная и рискованная работа, а он так ловко справляется. С тех пор, когда он проходил через наш двор, мы приветливо с ним здоровались и уже не пели ему вслед про тучи, которые ходят хмуро.
После смерти Бромзонихи в ее комнатке поселилась Марта Ивановна, она была немка. К ней часто приезжала ее сестра Ванда Ивановна, которая жила неподалеку от нашего дома. Ее в пролетке привозил ее муж. Все во дворе хорошо знали обеих сестер. Марта Ивановна в войну взяла из детского дома и удочерила девочку Тамару. Но Ванда Ивановна с мужем забрали ее к себе. Я виделась с Мартой Ивановной незадолго до ее кончины в одно из посещений нашего старого двора. У нее был сильный старческий склероз, и она уже почти ничего не помнила и никого не узнавала. Она умерла у своей приемной дочери, которая в конце жизни забрала ее к себе в Братск.
Рядом с Мартой Ивановной на первом этаже бромзонихиного дома жила Попова Калерия Яковлевна с сыном Вовкой. Вовка дружил с моим братом и имел во дворе прозвище «Тилипуп». Калерия Яковлевна всю жизнь проработала лаборантом в противочумном институте. После войны у нее появился гражданский муж, Иван Чичигин. Он в войну бык летчиком. Выпив, он любил рассказывать о самолетных боях, при этом всегда показывал ладонью руки, как он «заходил», как «планировал», как кто-то падал, и сопровождал свой рассказ звуками: «ж-ж-ж…, з-з-з…, у-у-у…». Однажды он не пришел домой, а через несколько дней явился пьяный и, как рассказывала Калерия Яковлевна моей бабушке, плакал у нее на плече, причитая : «Каля, я женился». На что она ему сказала: «Женился, так женился. Забирай свои вещички и до свидания». Калерия Яковлевна была очень славная, спокойная, добрая, улыбчивая. Дружила с моей бабушкой. Внешне она была очень симпатичная.
«Тилипуп» окончил техникум точного машиностроения, потом отслужил в Военно-морском флоте. Я помню, как он вернулся со службы и щеголял перед дворовой ребятней красивой морской формой и кортиком. Потом он стал офицером МВД. Получил квартиру, и Поповы уехали из нашего двора. Позже волею судьбы мы с мужем оказались соседями с Калерией Яковлевной на улице 5-й Армии. Мы обе были рады встрече и соседству. Сейчас уже и ее, и ее сына нет на свете.
Левую половину второго этажа бромзонихиного дома занимала семья врача Филениуса. У них было четыре комнаты и большая кухня. Окна их квартиры выходили и на передний, и на задний двор. Я любила бывать у Филениусов. У них в доме был достаток, было красиво, на всех окнах висели шторы. В столовой стояло пианино, большой буфет (но не такой красивый, как наш), а в центре – стол, накрытый скатертью. Угловая комната была спальней, где стояли две кровати, комод и такой же, как у нас, умывальник.
Валентин Акселевич Филениус жил со своими родителями, Акселем Ивановичем и Розальей Карловной. Они были какого-то норвежского происхождения. Жили когда-то в Кронштадте, потом в Санкт-Петербурге там и родился Валентин Акселевич. Жену Валентина Акселевича звали Галина Петровна. С ними вместе была и ее мать Зинаида Яковлевна Шеленкова, коренная иркутянка. Дочь Филениусов, Элечка, была ровесницей моего брата.
Семья Филениусов была одной из наиболее уважаемых во дворе. Валентин Акселевич окончил ту же, что и мой дед, Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию, только значительно позднее, в 1927 году. Он более 30-ти лет был военным врачом, работал в том же, что и дед, военном госпитале. Во время Отечественной войны в Иркутске была создана сеть эвакогоспиталей, куда везли раненых со всех фронтов. В.А.Филениус, как один из ведущих специалистов, был назначен начальником эвакогоспиталя. После демобилизации в 1948 году он был избран ассистентом Лор-кафедры Иркутского мединститута, одновременно возглавлял областное общество оториноларингологов. В книге А.Г.Шантурова и Г.М.Гайдарова «Иркутский Государственный медицинский институт в годы Великой Отечественной войны» (г.Иркутск, 2005 г.) о Филениусе написано: «У Валентина Акселевича не было ученого звания, но был большой жизненный опыт, высокая общеврачебная эрудиция, драгоценные качества высококвалифицированного педагога, диагноста, хирурга и обаятельного человека. Он явился в Иркутске одним из пионеров хирургического лечения рака гортани».
Галина Петровна тоже была врачом. Она окончила Иркутский мединститут и 20 лет (1932 – 1952) проработала в клинике глазных болезней.
Это была очень дружная пара. Валентин Акселевич – большой, полный, вальяжный. Он был совершенно лысый, черты лица крупные, манеры обходительные, очень доброжелательный и приветливый. Подстать ему была и Галина Петровна – мягкая и очень женственная. Они нежно относились друг к другу. Я помню, как Валентин Акселевич, прощаясь или здороваясь с женой, обязательно целовал ее в щеку, несмотря на то, что кто-то при этом присутствовал. Это были добрые люди. Я уже писала, как Валентин Акселевич спас мою маму от дистрофии в своем госпитале, а меня – от туберкулеза легких, пристроив в хороший детский санаторий. Филениусы спасали и Ляльку Ласточкину, когда она и бабушка голодали. Ляля и сейчас вспоминает, что Галина Петровна нередко кричала из окошка: «Эля и Ляля, идите обедать». А их домработница Лёля специально срезала толстый слой очисток с картошки и отдавала Ласточкиным. Филениусы не страдали от голода и в войну. Военным врачам выдавали хорошие пайки. У госпиталя было свое подсобное хозяйство, откуда часто привозили продукты. Домработница Лёля, бывало, говорила: «Сегодня со «способного» хозяйства привезли мясо, яйца и сметану» (для меня это в войну казалось сказочным). Филениусы держали на кухне кур. Они жили в курятнике, отчего в кухне всегда был специфический запах. Летом куры выпускались на задний двор. Я помню, какие они были красивые, яркие, особенно петух. Мне иногда нравилось посидеть на солнышке на филениусовском крылечке на заднем дворе, наблюдая за курами. А из окна кухни так вкусно пахло жареной курятиной, которую готовила Лёля.
Домработница Лёля долго жила у Филениусов. Она родила сына Юру. Этого мальчика Филениусы растили и воспитывали. Я хорошо запомнила, как Юрка пошел в первый класс. Ему сшили черные штанишки, клетчатую серую рубашку, а на шее у него был повязан большой шелковый черный бант. Юрка торжественно шествовал с сумкой в сопровождении матери в школу, а весь двор любовался им. Он был доволен и смущен. Потом Лёля вышла замуж за овдовевшего хозяина домика, расположенного через забор от нашего двора, и у нее появилось свое хозяйство и огород. Филениусы взяли откуда-то из деревни новую домработницу, молодую девушку Шуру.
Эля Филениус была старше Ляльки Латочкиной на три года, а меня – на шесть лет. Лялька по мере нашего подрастания больше тяготела к Эле. Я немножко ревновала свою подружку. Но я любила Элечку. Она была добрая и общительная, остроумная, любила шутить. Ее учили игре на пианино. Она не бегала с моими сверстниками в наших играх, а Лялька была самой заядлой их участницей. Обе мы с Лляькой были активными болельщиками, когда ровесники Эли и моего брата играли в волейбол через сетку.
Повзрослев, мой брат очень симпатизировал Элечке. Он всегда говорил: «Элька такая умная, а в математике она – вообще сила». Элечка и своей профессией выбрала математику. Она окончила Иркутский пединститут и всю жизнь преподавала математику в техникуме и вузе.
Элечка вышла замуж за летчика Юрия Руссаловского, настоящего летчика, высокого и красивого, с улицы Бабушкина, где в него были влюблены многие девчонки. Мужа перевели на работу в летное училище в Кременчуг, и они уехали. Супружеской жизни у них не сложилось. У Эли двое детей: сын Сергей, был вертолетчиком на Камчатке, сейчас живет в Санкт-Петербурге; у него две взрослые дочери и внуки; дочь Эли, Ирина, живет в Кременчуге, директор фабрики, Эля тоже живет в Кременчуге, теперь за границей.
Я хорошо помню Розалью Карловну – мать Валентина Акселевича. С моей бабушкой она дружила и часто бывала у нас. Я любила ходить к ней в гости. Розалья Карловна и Аксель Иванович жили в комнате рядом с кухней и уборной, с окнами, выходящими на задний двор. Розалья Карловна считала, что к матери Галины Петровны в семье отношение лучше, чем к ним с мужем. «Вот и комната у нее рядом со столовой, а не уборной, и окно выходит в передний двор.» А мне больше нравилась комната стариков Филениусов, квадратная, солнечная. У них стояли два больших глубоких, очень мягких кресла. Они всегда были закрыты белыми холщовыми чехлами. Я любила сидеть в кресле, провалившись в мягкие подушки. Интересной для меня вещью был женский манекен для примеривания платьев при шитье. Манекен был большой, наверное, рассчитанный на крупную даму с высокой грудью и объемистой талией. У него не было головы, рук и ног, а только туловище с частью бедер, плечи и шея. Розалья Карловна привезла его из Ленинграда, она говорила про себя: «Я – знаменитая ленинградская портниха». Я не помню, шила ли она кому-то в Иркутске. У нее не было швейной машинки. Поэтому с машинкой моей бабушки была целая история. Розалья Карловна постоянно просила ее у бабушки, уверяя, что взялась кому- то что-то шить. Бабушка по доброте душевной, конечно, ей давала машинку. А Розалья Карловна сразу же несла ее в ломбард. Мне кажется, что она таким образом выманивала деньги у сына, потому что выкупать машинку из ломбарда приходилось ему. Повторялось это из-за чрезмерной доверчивости моей бабушки неоднократно. Иногда машинка подолгу оставалась заложенной. Я помню, даже однажды бабушка шила мне летний сарафан из старого маминого платья вручную, так как машинка в это время пребывала в ломбарде. Не один раз всевидящая тетя Таня Федоренко прибегала к моей бабушке с вестью: «Анна Викторовна, Розалья опять вашу машинку потащила в ломбард!» Бабушка никак не могла отказать Розалье Карловне. Я думаю, конец этому положил Валентин Акселевич, проявив твердость по отношению к своей матери. Авантюра с машинкой никак не отразилась на дружбе Розальи Карловны с моей бабушкой. Вообще Розалья Карловна, несмотря ни на что, была доброй женщиной. Когда бабушку положили в больницу на операцию грыжи, она меня и Вовку препоручила Розалье Карловне (мама все время была занята на работе, Ирку носили в ясли). Розалья Карловна строго, гораздо строже моей бабушки, за нами следила, кормила нас, деля поровну хлеб и регулярно принося из столовки обед, на который нам, как детям, потерявшим отца, выдавали талоны. А однажды она принесла мне на блюдечке янтарный прозрачный мед, наверное, из пайка своего сына, и учила меня, как надо его есть: аккуратно брать немножко ложечкой, переворачивать ее, чтобы мед не капнул, и обязательно припивать водой или чаем. Розалья Карловна звала меня «Натуся», но это не было ласкательным от Наташи, а, наоборот, более строгим от Туси.
Я помню, как хоронили Акселя Ивановича, потом Розалью Карловну. Последней из старшего поколения этой семьи умерла Зинаида Яковлевна.
Филениусы переехали из нашего двора на Набережную Ангары. Теперь уже и Валентина Акселевича, и Галины Петровны нет в живых. Хорошо помню многолюдные похороны Валентина Акселевича из фойе мединститута, с торжественным караулом и прощальными речами.
Напротив Филениусов на втором этаже стоящего во дворе дома жили Кауфманы: муж, жена и сын. Яков Соломонович был каким-то начальником, служил по снабжению. Он был большой, важный, носил шляпу и габардиновый плащ. Его жена Елена Романовна была родной сестрой Бориса Романовича Ротфарба. Она была очень серьезной и строгой женщиной, работала хирургом сначала в госпитале, а потом в образованном после войны институте травмотологии.
Все три Елены в нашем дворе – Романовна, Михайловна и Яковлевна, дружили между собой. Они называл друг друга не Лена, а Лёна. Часто во дворе было слышно, как Елена Михайловна под окном Кауфманов, или Елена Романовна из окна сверху, или Елена Яковлевна из окна снизу кричали друг другу : « Лёна. Лёна!» и переговаривались. Телефонов тогда во дворе ни у кого не было.
Сын Кауфманов, Рувим (Рувка), был одного возраста со старшими дочерьми Герасимовых, с Диной он учился в одном классе в 13-й школе на улице Тимирязева ,( где потом училась и я). Когда началась война, Рувим сразу после школы ушел на фронт. Он прошел всю войну до Берлина, его даже ни разу не ранило. Все соседи радовались возвращению Рувки с фронта живым и здоровым. Он был тогда красавцем: высокий, стройный, в гимнастерке, перепоясанной портупеей, с вьющейся мелкими кудрями высокой шевелюрой. Был очень энергичный и жизнерадостный. Он привез с войны трофей – каменный кулак от какой-то разбомбленной скульптуры Рейхстага, и любил им с гордостью всем хвастать.
Рувим привел в наш двор красавицу – жену Басю. У них родились дети, Боря и Маринка, которые теперь уже имеют своих взрослых детей. Рувим окончил политехнический институт, стал инженером. Мы долгие годы работали с ним вместе в ИркутскНИИхиммаше. Его уже нет, а Бася жива.
Соседкой Кауфманов по кухне была Иванова. Не знаю ее имени и отчества, так как во дворе ее так и звали между собой – Иванова. Ее недолюбливали, потому что она была скандальной. Часто ругалась с Еленой Романовной из-за общей кухни и уборной и почему-то – с тетей Таней Федоренко, хотя с ней-то им делить было нечего, разве что их кладовки для топлива были рядом. У Ивановой был сын Игорь, немного старше моего брата. Игорь во дворе имел два прозвища: «сынок» - потому что мать, когда звала его домой, в окошко на заднем дворе громко, так что было слышно и в переднем, кричала: «Сынок!». А второе прозвище было «Судок с галушками» , так как Игорь каждый день с судком ходил в столовку за обедом, который чаще всего состоял из супа с галушками, черными и клейкими. Игорь на прозвища не обижался. Он вообще был очень серьезный и положительный мальчик. Как-то моя мама, собрав дворовых ребят, водила их в лес. Там разводили костер, и Игорь, пытаясь разрубить вдоль полешко и поставив на него босую ногу, поранил себя топором, правда не сильно, врачебная помощь не понадобилась. Но Иванова все равно на следующий день громко бранила мою маму, стоя посередине двора. Тогда Игорь, которому было лет 13 – 14, остановил мать, заявив, что виноват только сам, и увел ее со двора. Игорь уехал учиться в Москву, стал каким-то ученым. Уже позже, когда мой брат учился в институте, у Ивановой жил ее племянник Анатолий. Он учился где-то. Ребята, Вовкины сверстники, сразу прозвали его Алитетом. В те годы в кино шел фильм по роману Т.З.Семушкина «Алитет уходит в горы» о народе Чукотки. А Толя был смуглый, с черными прямыми волосами и чуть узковатыми глазами на круглом лице.
Осталось рассказать только о жильцах избушки на заднем дворе. Сначала там жила семья нашего дворника. У него была жена и сын Ленька, среди детей – «Лентенпуп». Когда они уехали, в избушке несколько лет жила старуха, которая занималась нищенством, была набожная и целые дни проводила около церкви. Наконец, полуразвалившуюся избушку снесли. Куда делась нищенка, я не знаю.
Обо всех, с кем мне довелось прожить бок о бок в нашем дворе почти тридцать лет, с1936 по 1966 год, я вспоминаю с теплотой и благодарностью. В непростые времена отношения у соседей были добрыми. Двор наш по-настоящему был общим домом. Если сейчас мы видимся с теми, кто жив, то встречаем друг друга почти как родные.
Май 2005 г. – февраль 2006 г.
г.Иркутск.