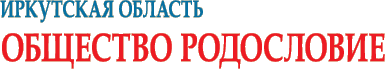Земля и корни (Н.Н. Михайлова)
Детство. Из всей прожитой моей жизни оно вспоминается наиболее ярко и отчетливо. Хорошо помнятся люди, меня окружавшие, дом, где я росла, многие события, мои детские чувства и ощущения, даже звуки и запахи, наполнявшие тогда мир.
На эти воспоминания душа откликается теплотой и радостью. И так не хочется, чтобы все это когда-нибудь ушло навсегда. Поэтому и решилась писать. Может быть кто-нибудь из моих близких когда-нибудь прочтет это «писание». Хочется, чтобы у читающего пробудились интерес и добрые чувства к своим предкам.
Глава 7. Дети Н.Н. Бессонова
Как я уже писала, в первом браке с Варварой Болеславовной Шостакович у моего деда Николая Николаевича Бессонова было трое детей: старшая дочь и два сына. Первых двух детей, дочь и старшего сына, я никогда не видела. Они ушли из жизни еще до моего рождения. А с младшим сыном (я звала его дядя Юша) я была знакома.
Я не знала полного имени первой дочери деда до самого последнего времени, ее всегда называли Лялечкой. В сентябре 2005 года я на свой запрос получила справку из Российского Военно-исторического архива с некоторыми биографическими данными Н.Н.Бессонова. И вот из нее я узнала, что первую дочь звали Варварой и родилась она в апреле 1897 года. Она умерла, когда ей было 12 или 13 лет от дифтерии. Остались ее снимки, совсем маленькой девочки и незадолго до кончины. На последних – девочка-подросток с аккуратной длинной косичкой, с умным и благородным лицом, рядом со своими двумя братьями. Ей не суждено было прожить взрослую жизнь. В те времена, в начале 20-го века, дифтерия была болезнью, с которой не смог справиться даже любящий ее отец - хороший врач.
Старший сын, Николай, родился в июле 1898 года. Окончил Иркутскую артиллерийскую школу, стал военным. Началась гражданская война, и Николай оказался в этой борьбе русских людей друг против друга на стороне «белых». Был ли это сознательный выбор? А может так сложились обстоятельства. Это могло быть решение его военного командования. Я этого не знаю. Коля погиб на гражданской. Моя бабушка Анна Викторовна спрятала в тайничке листок от письма товарища Николая, воевавшего вместе с ним в одном артиллерийском расчете. На листке, сохранившемся до сих пор, есть такие строки: «… они так пристрелялись, что в конце концов два последних неприятельских снаряда упали и разорвались около самого орудия, этими снарядами были убиты Коля Безсонов и вторым окончивший иркутскую гимназию Кизьяков. Коля убит 13\26 сент. за селом Большие Ключи в 7 часов вечера. Похоронены они в церковной ограде вместе, ближе к северной стороне ограды 15\28 сент. в 5 часов вечера. Дер.Очин».
К сожалению, год не указан, не сохранилось ни начало письма, ни конверт. Коле в это время было около 20-ти лет. Но у нас дома были только его детские фотографии. Очевидно, все его юношеские снимки из предосторожности были уничтожены.
ДЯДЯ ЮША.
Его младший брат, Юрий, второй сын Николая Николаевича, в гражданскую тоже был артиллеристом, но воевал на стороне «красных». Такое было страшное время: брат – против брата, сын – против отца. Я не знаю, как мой дед относился к позициям своих сыновей. В семье это никогда не обсуждалось. Так же как никогда не обсуждались репрессии, которые не обошли и нашу семью. Я как-то, учась уже в старших классах (это было еще время «культа личности»), спросила бабушку: «Почему это в нашей стране так много врагов народа, откуда они берутся?» Бабушка строго на меня посмотрела и казала: «Давай никогда не будем говорить на эту тему». Ответ и тон бабушки вызвали у меня неудовлетворенность и удивление. Я еще не знала, что и в нашей семье тогда тоже были «враги народа».
Юрий родился в 1900 году. Окончил иркутскую гимназию и рассчитывал пойти по юридической линии, стать адвокатом. Но жизнь распорядилась по-своему. Началась гражданская война, и Юрий добровольцем пошел в Красную Армию. Служил в артиллерийском полку. Был участником боев под Читой, Кукой, Волочаевкой, Спасском, Халхинголом. Под Читой командовал батареей. Он был одним из первых красных командиров в Сибири, награжденных орденом Красного Знамени. После гражданской Юрий служил в рядах Красной Армии командиром дивизии (3-й артиллерийский дивизион в городе Томске). В 1929 году он уволился в запас по болезни сердца (как и его отец), уехал в Москву и работал в Народном Комиссариате Торговли экономистом. В Москве он начал заниматься литературой. В 1929 году вышел его первый рассказ. В 1933 году – первый роман «Контора в новом городе». Это были впечатления участника гражданской войны. В 1934 году во время 1-го съезда советских писателей Юрий Бессонов был принят в Союз писателей. С этого времени он занимался только литературой. Вскоре его пригласили работать в только что организованную по инициативе М.Горького редакцию «История фабрик и заводов». Он уехал на Урал, где перевернул огромное количество архивного материала, особенно по истории Верхне – Исетского завода. На этих материалах были написаны и опубликованы очерки, рассказы и повести. За очерк об одном из директоров заводов (а этот человек был объявлен «врагом народа») Юрий Николаевич в 1937 году был арестован – так вот повернулась судьба. К счастью, его не постигла участь большинства репрессированных, вскоре он был освобожден. Когда началась Отечественная война, мой дядя добровольно пошел на фронт. Он прошел всю войну до Берлина. Начал он с рядового артиллерийского расчета. Мой другой дядя, Сергей Николаевич Бессонов, рассказал о старшем брате такую историю, произошедшую с ним на фронте. Однажды на их батарею приехал какой-то большой начальник, из штабных. А командир батареи оказался пьян и спал в это время. Юрий Николаевич попросил разрешения у разгневанного начальства доложить обстановку. Сначала тот раскричался: «Кто ты такой, чтобы мне докладывать?!» Но потом поразился грамотности и обстоятельности доклада. А когда Юрий Николаевич рассказал ему о своей прошлой службе в Красной Армии, тот забрал его с батареи с собой. Юрий Николаевич стал начальником разведки артиллерии дивизии, затем начальником штаба артиллерии дивизии и в конце войны – старшим помощником начальника оперативного отделения артиллерии Штаба Армии. Награжден многими орденами и медалями СССР и Чехословакии.
После демобилизации Юрий Николаевич задумал написать трилогию о Советской Армии. Где должен был быть отражен период гражданской и отечественной войн. Но, к сожалению, здоровье позволило ему закончить только первую книгу трилогии, роман «Восстание». Это исторический роман о гражданской войне в Сибири и на Урале. Он полно отражает события и гражданскую войну в нашем городе. Узнаваемы места и действительно существовавшие люди Иркутска. Интересен образ адмирала Колчака, которому в романе отведено много места. Именно из-за этого образа у Юрия Николаевича были трудности с опубликованием романа. Цензура требовала переделок и уточнений. Но все же усилиями автора образ Колчака остался реалистическим. Роман был опубликован Военным издательством в 1955 году, переиздавался несколько раз. Заканчивал свой роман Юрий Николаевич уже тяжело больным, часто лежа в постели. Он скончался в 1958 году, похоронен в Москве.
Юрий уехал из родительского дома с началом гражданской войны. Приезжал он туда только погостить. Долго он жил в Томске, Свердловске, а потом обосновался в Москве. Дома встречали его всегда с радостью и любовью. Младшие дети, от второго брака отца, были с ним очень дружны. Юрий был женат несколько раз. Он был очень красив, аристократичен. Женщины его очень любили. Бабушка рассказывала, что первая жена Юрия была балерина, они вместе приезжали в Иркутск. Она была маленького роста и, когда хотела поцеловать мужа, поднималась на самые цыпочки, как на пуанты, и так шла к нему, чтобы нанести поцелуй. Последняя жена его, Галина Михайловна, прожила с ним долгие годы до самой его смерти. Она была очень доброй, хорошей и умной женщиной, по рассказам ее друзей. Я с ней не была знакома. Я и с дядей Юшей виделась один только раз. Когда я училась классе в 4-м или 5-м, бабушка решила, что я должна научиться писать письма. Я думаю, она попросила моих дядей Юшу и Сережу переписываться со мной, они тогда оба вернулись с войны и жили в Москве. И наша переписка началась. Сначала бабушка читала наши письма, помогала мне, подсказывала, что и как писать. Но вскоре я уже сочиняла свои письма самостоятельно и даже не хотела давать читать их бабушке. Я, наверное, писала своим дядям о школьных и пионерских делах, о своих товарищах. О чем было в их письмах, я теперь уже не помню, помню только, что они были очень доброжелательными, и я любила их получать. Дядя Юша всегда писал мне коротенькие письма на хорошей плотной бумаге зелеными чернилами и почему-то печатными буквами, наверное, у него был неразборчивый почерк. К сожалению, письма эти не сохранились. Есть только одна фотография, где - дядя Юша в военной форме, на обратной стороне ее зелеными печатными буквами надпись: «Дорогой Тусе от дядя Юши, Москва, 1946г.»
Я уже была студенткой университета, и мы с мамой и моей тетей Анной Николаевной ездили в Москву. И были у Юрия Николаевича под Москвой на даче. Он произвел на меня, тогда провинциальную девушку, впечатление «столичного льва». Я была даже несколько подавлена его внушительным видом, крупной головой с длинной лохматой шевелюрой действительно напоминавшим льва. Его величественными манерами. Его уверенным и артистическим голосом. Он читал нам главы из своего тогдашнего последнего сочинения. Я не помню ни его названия, ни содержания того, что было прочитано. Я зачарованно смотрела на этого своего необыкновенного дядю. К этому времени уже был издан и переиздан роман «Восстание», и Юрий Николаевич чувствовал себя на волне признания.
Весь личный архив писателя Юрия Николаевича Бессонова после его смерти находился у его жены Галины Михайловны в Москве. Перед своей кончиной она завещала племяннице, живущей в Свердловске, передать архив на хранение в Иркутск. Архив перевезли в Свердловск, а потом мне удалось с помощью иркутской городской администрации переправить его в Иркутск. Я передала его в Иркутский Областной Государственный Архив в 1999 году, и он хранится там.
ЛЯЛЯКА.
В 1907 году бабушка родила своего первенца – дочь Анну. Ее стали называть Асей. Бабушка очень любила свою первую дочь, и она осталась ее любимицей на всю жизнь.
Замечательная иллюстрация к детству Аси – ее взрослое уже стихотворение. Я его очень люблю, когда читаю, наворачиваются слезы, наверное, от схожести чувств при воспоминании о собственном детстве.
Красное платье в белых горошинах,
Руки, испачканные в земле,
Теплые ноздри мухортой лошади,
Крутые овраги, сосновый лес…
Мы начинаем думать о детстве,
Когда позади уже много лет,
Когда от тоски некуда деться,
Взрослой тоски о детском тепле.
Ласточек свист за оконной рамой,
Пахнущий летом вечерний чай.
Маленький фартук, вышитый мамой,
Желтые волосы на узких плечах.
Солнце казалось таким огромным,
Луна была медом начинена,
И по-другому звенели от грома
Стекла распахнутого окна.
И по-другому, грозой остужен,
Весенний воздух сердце томил,
Когда дождевая теплая лужа
Вмещала в себе опрокинутый мир ………
В этих стихах не даром есть строки о теплых ноздрях мухортой лошади, а также о крутых оврагах. Моя тетя с детства была влюблена в лошадей и верховую езду. Если ее сестра и братья в детстве собирали открытки кошек, собак или рождественские, то она собирала исключительно открытки с изображением лошадей. Некоторые из них я храню до сих пор. У нее была своя лошадка Мухорка. Ее увлечение привело к тому, что отец отдал ее в школу верховой езды при ипподроме. И она прилично ездила верхом не только в детстве. Она и потом собирала литературу о лошадях, довольно хорошо разбиралась в мастях, породах. Теплую любовь к этому красивому и благородному животному она сохранила на всю жизнь.
Анна Николаевна была наиболее близка мне и любима мною из всех моих дядей и тетей. Мы вместе жили в ее родительском доме, когда я была маленькая, потом она часто приезжала домой в отпуск из разных мест. И самые последние годы она тоже жила вместе со своей сестрой, моей мамой, и нами, ее племянниками. Поэтому я была рядом с ней многие годы. В моей юности и молодости мы были хорошими друзьями. Я думаю, она во многом оказала влияние на формирование моего ума и души.
А в детстве я ее просто обожала. Я любила, когда она брала меня на руки, подбрасывала на коленях, припевая: « По кочкам, по кочкам, по гладеньким дорожкам». И я визжала в восторге, когда доходило до «в ямку – бух!» Бабушка и мама мне рассказывали, что, завидев ее, я со всех ног бросалась к ней с криком: «Ляляка – бобовака!» Я тогда еще только начинала говорить и, наверное, «Ляляка-бобовака» на детском наречии означало что-то доброе, хорошее и любимое. К ней так и пристало это имя. Все дети в семье стали звать ее Лялякой, Лялякочкой. Так звали ее не только у нас дома, но все дети в нашем дворе, наши друзья. Она сама рассказывала, как, будучи уже в преклонном возрасте, идя однажды по улице в Иркутске, услышала мужской голос: «Здравствуйте, Ляляка!». С другой стороны улицы ее громогласно приветствовал солидный мужчина, которого она, к сожалению, не узнала.
Ляляка и ее младшая сестра, моя мама, совсем не были похожи ни внешне, ни по характеру. Тетя была более жизнерадостной, общительной, скорее с мужским характером.
И черты лица у нее были другие – крупный нос и рот. А глаза серые. У моей мамы глаза были черные – бабушкины. А у Ляляки – отцовские. У мамы была прекрасная русая коса, а у старшей сестры – мягкие тонкие желтые волосы, которые плохо росли. Я помню, она всю жизнь обесцвечивала их перекисью водорода. В молодости она носила гладкие волосы. В подражание какой-то знаменитой тогда иностранной кинозвезде у нее была короткая стрижка с челкой треугольником на лбу. Потом она стала закручивать волосы на бигуди. За ее жизнь бигуди менялись и совершенствовались. Сначала она пользовалась просто скрученными бумажками, потом какими-то резиновыми колечками, потом пластмассовыми цилиндриками с резинками. Мне навсегда запомнилось, как она каждый вечер перед сном, сидя перед небольшим настольным зеркалом, слюнявила тонкую прядку волос, скручивала ее и наматывала на бигуди. А утром вокруг ее головы образовывался пушистый светлый ореол. У нее было своеобразно красивое лицо. Она была маленького роста и полноватая с молодости. Но у нее был свой шарм. Уверенные манеры и походка. Она ходила, широко размахивая рукой, в которой держала дамскую сумочку. Она умела эффектно носить даже невзрачную одежду. Любила и умела сама сооружать шляпки, которые очень шли к ней. Очень любила мех. С юношеских лет пользовалась губной помадой и тушью для ресниц (в виде твердого брусочка в картонной коробочке, на который надо было плевать, чтобы растворить тушь и набрать ее на щеточку). Она рано начала курить. Это было модно в их с мамой молодости. В войну она, как и мама, курила махорку, а потом стала курить лучшие в те годы папиросы «Казбек», с длинным мундштуком, в картонной коробке с открывающейся крышкой, на которой был изображен силуэт всадника на фоне снежных вершин Казбека. Я помню характерный звук, когда она, достав папиросу, перед тем, как закурить, часто-часто постукивала ее мундштуком о крышку коробки, потом обязательно встряхивала коробок со спичками, чтобы проверить, полон ли он (она ненавидела полупустые коробки), а потом уже раздавался звук зажженной спички.
Ее любили мужчины. Она и дружила в жизни с мужчинами. Я не помню, чтобы у нее были настоящие подруги. Она очень рано вышла замуж за красавца еврея, сына иркутского профессора Левита.
Анна получила высшее образование, окончив хозяйственно-правовой факультет Иркутского университета. С семьей Левитов она уехала в Москву. Пробовала писать стихи, увлекалась посещением литкружков, встречалась с известными в 30-е годы в Москве поэтами. Но профессиональным поэтом она не стала, хотя, как и мой дед, всю жизнь «пописывала». С Левитом она разошлась, и со вторым своим мужем Федором Арнольдовым уехала на Игарку, где муж работал в Севморпути.В 1938 году муж был репрессирован. Чтобы спасти жену, он уговорил ее оформить развод, и они были разведены. Анна вернулась в Иркутск к родителям. Некоторое время работала экономистом на заводе им.Куйбышева. Начала заниматься лекторской работой. Позднее, уже после войны, она была членом лекторской группы обкома партии. В это время она подружилась с Мироном Акимовичем Бендером, который стал очень известным и популярным в Иркутске лектором. Они дружили всю жизнь. А сейчас я в добрых отношениях с дочерью Мирона Акимовича поэтессой Людмилой Бендер.
Это были первые годы войны. Тогда, я помню, у Ляляки появилась подружка. Она звала ее Муська. У Муськи была дочь моего возраста, и жили они в нашем дворе. Муська работала кастеляншей в детском саду. Она была молодая, разбитная, яркая, носила большой плоский берет на одном ухе. У нее водилась выпивка и еда. И она любила приглашать в гости офицеров. Однажды она пригласила к себе мою тетю. И та зачастила к ней, возвращаясь домой «навеселе». Мама, я помню, очень осуждала сестру. А бабушка, любя ее, пыталась оправдывать: «Наташа, тебе трудно ее понять. Это она от одиночества».
Вскоре от завода Анна Николаевна получила партийное задание – партпредставителем на селе, и уехала в село Харик Иркутского района. Там она прожила до конца войны. Я один раз ездила туда к ней в гости и была поражена, какая она стала худая. Мы с ней очень немного виделись там, так как она рано уходила на работу, по-моему, в райком партии, и поздно возвращалась. Жила она очень скромно, в крохотной комнатке, отгороженной дощатой стеной от хозяйской избы.
После войны Ляляку направили на партийную работу на осваиваемый в то время остров Сахалин. Долгие годы она прожила там, сначала в городе Холмске, а потом в Охе. Была заведующей партийным кабинетом в ГК КПСС, членом лекторской группы. Она любила Сахалин, всегда говорила, что там живут особые люди.
Когда началась реабилитация репрессированных, Ляляка очень ждала возвращения мужа Федора. Так как она жила на Сахалине, а муж знал только ее иркутский адрес, она написала для него письмо и оставила его своей маме на всякий случай. Бабушка долго хранила это письмо в своем тайничке, который, кстати, никогда не закрывался. И вот я однажды тихонько достала и прочла это письмо. Моя тетя писала, что всегда любила и любит мужа, что не может простить себе согласия на развод, что очень ждет и надеется. Это письмо пронзило меня. Я тогда вспомнила наш с бабушкой разговор о «врагах народа» и многое поняла. Лялякин муж так и не вернулся, очевидно, сгинув где-то в лагерях, а может и был расстрелян.
Каждое лето, как все в то время северяне у нас в стране, накопив за зиму деньги, она приезжала в отпуск на «большую землю». Отпуск у нее был длинный. Она какое-то время в отпуске жила дома, подолгу спала (очень любила, как в детстве, спать на бабушкиной кровати, которую бабушка всегда с любовью отдавала ей, перебираясь сама на диван), много читала. Любила сидеть на лавочке в нашем дворовом «садике». А потом обязательно ехала в Москву или на Черное море. Она всегда в эти поездки брала с собой меня. Для меня это было большой радостью. Я любила общение с ней, легкое, веселое, умное. Я никогда не слышала от нее нравоучений, замечаний. Конечно, я не всегда вела себя с ней безупречно. Но если она и выражала недовольство или несогласие, то в совсем необидной форме, чаще всего в шутливой, иронической. Мы ходили с ней по Москве, заходили в музеи, бывали в театрах. Но самым любимым нашим развлечением было посещение знаменитого кафэ «Мороженое» на улице Горького. Мы брали меню и по-порядку заказывали весь ассортимент. Мы съедали чуть ли ни по килограмму мороженого. Еще Ляляка очень любила шоколад и особенно кофе. Без него она не могла существовать. Она и меня пристрастила к кофе. Тогда не было растворимого кофе, был только молотый «Мокко» в узких высоких картонных коробочках и двух видов: с цикорием и без цикория. Живя у нас, Ляляка каждое утро первым делом обязательно заваривала себе кофе на газовой плите в специальной небольшой зеленой эмалированной кастрюльке-ковшике с длинной ручкой, которую она прихватывала носовым платком или подолом халата. Она пила крепкий черный кофе, при этом любила обмакивать в него и съедать кусочки хлеба. Только после этого она начинала все другие дела текущего дня. Следующим за кофе было обычно долгое просиживание перед зеркалом со взбиванием волос в прическу, подкрашиванием глаз и губ, и это всегда сопровождалось выкуриванием ни одной папиросы.
За утренним или вечерним туалетом или за вытиранием пыли в доме Лялякочка очень любила напевать, а еще больше читать стихи. Она знала напамять много стихов, при чем таких, которых в школе не преподавали, и я, кроме как от нее, их не слышала. От нее еще в детстве я услышала стихотворение Саши Черного:
Мишка, мишка, как не стыдно,
Вылезай из-под комода.
Ты меня не любишь, видно.
Это что еще за мода.
Весь в пылинках, в паутинках,
Со скорлупкой на носу……
Кроме стихов Саши Черного, она читала из Киплинга, А.Толстого, Блока, Ахматовой, Цветаевой. Пела она в основном песенки и романсы Лещенко и Вертинского, которые тогда вообще были запрещены. Она пробудила во мне интерес к необыкновенному Вертинскому. Поэтому, когда его «разрешили» и в продаже появились его пластинки, я покупала все, что было. И теперь у меня почти полное собрание его пластинок. И я его очень люблю.
Уже после смерти бабушки Ляляка решила покинуть свой любимый Сахалин и переехать в Иркутск. Она поселилась вместе с нами, чему я была рада. Она была очень уютным человеком. Своих детей у нее не было из-за внематочной беременности в молодости. Но она любила всех нас. Мне нравилось, как она обязательно говорила: «Приходи скорей», когда кто-нибудь из нас уходил из дому.
У нее не было совершенно навыков в женских хозяйских делах. Она не умела готовить. Единственным блюдом, которое она сама готовила, кроме кофе, конечно, было жареное свиное мясо. Она небрежно резала его на куски, солила и бросала на сковородку. Получалось очень вкусно. Я любила так «попировать» вместе с ней. Она не умела шить, если ей необходимо было пришить оторвавшийся подол или петлю, она вдевала в иголку длиннющую двойную нитку и шила безобразными большими стежками насквозь. Зато, живя на севере, она научилась обращаться с мехом, смело его сшивала, ремонтируя сама дошку, воротники. Она научила и меня правильно шить мех. С Сахалина она привезла множество устаревших шляпок и научила меня размачивать их, и из мокрого фетра и велюра мастерить отличные шляпки. И мы с ней в пору, когда их и в магазинах не было, понаделали себе различных шляп. Я помню, женщины на улице даже обращали на нас внимание.
Она купила пианино, много времени просиживала за ним, разучивая по нотам в основном вальсы Шопена. Играла она не очень хорошо, у нее не хватало выдержки точно разучить ноты. Но я все равно любила ее слушать. С молодости она помнила несколько музыкальных фраз из какой-то оперетты «Голос сердца». Это была бравурная, жизнерадостная музыка. Ляляка любила иногда ее проиграть. Мне она тоже очень нравилась. Особенно, когда устанешь от подготовки к какому-нибудь экзамену, или вдруг настроение паршивое, попросишь: «Лялякочка, сыграй «Голос сердца». Она с удовольствием садилась за пианино, и начинала греметь на весь дом развеселая музыка. При этом Ляляка еще любила давить на педаль, и музыка превращалась в сплошное ликование. Я просила: «Еще!» и она повторяла одну и ту же фразу много раз. И мы с ней обе радостно «балдели». Она очень много читала. Имела привычку забраться коленями на стул и нависнуть над книгой, опираясь на локти, отчего они даже были красные. У нее был природный дар читать целыми страницами. Книгу она буквально «проглатывала», непрерывно перелистывая страницы. Я иногда не верила ей, что она может так читать. Она говорила: «Ну, хочешь, я расскажу все, что сейчас прочитала». Я спрашивала: «А если такое место, которое хочется перечитать: умная интересная мысль, красивое описание природы?» Она отвечала: «Где надо, я останавливаюсь».
Приехав в Иркутск, она преподавала философию в институте Иностранных языков. Я в это время оканчивала университет и готовилась к госэкзамену по философии. Я почти не читала учебников. Ляляка изложила мне весь необходимый материал. При этом мне было очень интересно с ней. Я задавала ей самые каверзные, на мой взгляд, вопросы, находя в материале противоречия, несовпадения, неправильности. Она никогда не пасовала. Когда мне казалось, что она не знает ответа или сомневается, она говорила: «Ну, давай вместе порассуждаем, подумаем». И мы рассуждали и думали и до чего-нибудь обязательно додумывались. Ляляка хорошо знала философию, и древнюю, и современную, и новейшую. Читала многих философов. Она была умной, образованной женщиной. Мне нравилась тренировка ума в общении с ней.
С ней легко было говорить на любые темы. К жизненным проблемам она умела относиться с некоторой иронией. Я слышала от нее: «Когда у меня плохое настроение, я стараюсь докопаться до причины и ликвидировать ее. А если нельзя, то стараюсь просто плюнуть на нее».
В ИНЯзе она вела факультатив современной иностранной литературы. Это было ее любимое детище. В те, 60-е, годы издавалось и было в продаже много книг из серии «Современный зарубежный роман». Анна Николаевна покупала их в большом количестве, создав целую библиотеку, почти всю прочитала. И предложила студентам такой факультатив. Она сама много прочла и знала, умела хорошо говорить, но и уважительно выслушивать собеседников. Ее факультатив был популярен и любим у студентов.
Года за два до кончины она стала болеть, сильно кашляла, иногда теряла сознание. По словам врачей, многолетнее курение дало себя знать. У Ляляки развился хронический бронхит курильщика, перешедший в эмфизему легких. Она скончалась в 1971 году в возрасте 64-х лет, похоронена на Радищевском кладбище рядом с моей мамой. Хоронили ее из института, проводить ее пришло много народа, особенно студентов.
ДЯДЯ СЕРЕЖА.
А самым любимым из моих дядей был старший сын моей бабушки Сергей Николаевич, дядя Сережа.
Он родился 31.05.1908 года. Окончил иркутский техникум изобразительных искусств. В 1931 году Сергей приехал в Москву с желанием получить высшее художественное образование. Но в высшее учебное заведение не попал. Как он сам мне рассказывал, предпочтение при приеме тогда отдавали детям рабочих и крестьян, а он был выходцем из «гнилой интеллигенции» (был тогда широко распространен такой термин). Обида у дяди Сережи по этому поводу осталась на всю жизнь. Но он все же стал профессиональным художником. Зарабатывая на жизнь трудом художника-оформителя, он одновременно писал картины. И уже с 1938 года его работы стали участвовать в выставках в Москве.
В первые же дни Отечественной войны Сергей Николаевич, хотя по болезни сердца был освобожден от военной службы, добился призыва, и с июня 1941 года по май 1945 года был на фронте. Есть снимок его в Берлине у стен разбитого Рейхстага. Он имел несколько орденов и медалей.
После войны дядя Сережа серьезно занялся работой художника. В 1946 году Сергей Николаевич был принят в члены Московского отделения Союза Советских художников. Он работал в области живописи, графики, очень любил работать акварелью. Первые его картины были связаны с воспоминаниями о войне. Потом Сергей Николаевич отдавал предпочтение изображению природы. Писал ее лирически вдохновенно. Подмосковье, средняя полоса России. Много писал Ангару, Байкал, приезжая в родные места из Москвы.
Работы художника С.Н.Бессонова находятся во многих музеях Москвы, в том числе в Третьяковской галерее, музее-панораме «Бородинская битва», во многих городах России и за рубежом. Он был участником многих художественных выставок в нашей стране и за рубежом. Последняя, посмертная, его выставка с большими усилиями и любовью была организована его вдовой Валентиной Сергеевной в 1987 году в Москве. К сожалению, работ Сергея Николаевича нет в нашем Иркутском художественном музее. Есть несколько не самых лучших работ в нашей семье. После смерти дяди Сережи Валентина Сергеевна связала свою жизнь с человеком, который оказался непорядочным, не сообщив нам в Иркутск даже о ее смерти. И мы долгое время не знали о ее кончине. Он прибрал к рукам и весь архив художника. У дяди Сережи оставалось очень много законченных работ. У них в доме половина большой комнаты была отведена под стеллажи, где в папках лежали акварели. Среди них было много моих любимых. Я почти со слезами думаю об их судьбе.
Дядя Сережа по характеру был очень похож на свою маму. У него была душа художника – нежная, чувствительная к прекрасному, ранимая. Он писал стихи, играл на пианино, хорошо пел. Он был по-настоящему красив и лицом, и высокой статной фигурой. У него был аристократический лоск в манерах, разговоре, движениях. Он шел всегда легкой походкой и грациозно «нес» большую голову с пышными волнистыми волосами, чуть откинув ее назад. Когда я впервые приехала в Москву и увидела своего дядю Сережу, я просто влюбилась в него. Когда мы ходили с ним по улицам, я видела, как женщины засматриваются на него. Недаром на моего дядю обратил внимание и московский фотограф: в рекламной витрине известной фотографии на улице Горького в Москве несколько лет висел большой портрет дяди Сережи, на который я всегда честолюбиво любовалась. Как рассказывал дядя Сережа, он позировал художникам, скульпторам, в том числе скульптору, оформлявшему станцию «Комсомольская» в московском метро. И он показал мне сделанную с него бронзовую скульптуру – сидящий, опершись о колено, юноша. Он, действительно, похож на моего дядю.
Дядя Сережа был остроумным, любил шутить, в компании его друзей умели весело развлекаться, придумывая маскарады, спектакли. Он и на фотографиях – то в пачке балерины, то рядом со слепленной им раскрасавицей - снежной бабой, то у волейбольной сетки. Он иногда позволял себе шутки, которые даже страшили меня. Как-то мы шли с ним по одной из московских улиц. Он вдруг снял свою шикарную фетровую шляпу и со словами: «К черту, надоела, сдавила мне голову!» ловким вращательным движением запустил ее вдаль. И она пошла кругами по асфальту вдоль улицы. Меня охватил ужас. Но прохожие, кто успел обратить на это внимание, улыбались, никто не мог посчитать поступок такого элегантного и красивого гражданина хулиганским.
Бывая в Москве, я всегда жила у дяди Сережи. У него не было мастерской, и он работал дома. В квартире был постоянный приятный запах художественных красок. У окна, в самом светлом месте, стоял мольберт. Я любила смотреть, как дядя Сережа работает: смешивает на палитре краски, подбирая нужный цвет, легкими короткими движениями касается кисточкой полотна, отходит и рассматривает написанное, чуть склонив голову, подходит к мольберту, что-то подправляет прямо пальцем. Его работе не мешали разговоры. И мы много с ним говорили. Он рассказывал мне о живописи, художниках. Мне нравилось слушать его рассказы о его маме, моей бабушке, которую он нежно любил. Я с наслаждением проводила рядом с ним по нескольку часов. Иногда он играл на пианино, пел. Иногда заводил пластинки, он любил романсы. Дядя Сережа водил меня в московские художественные музеи. Он больше всех любил Пушкинский, мы бывали там несколько раз.
Его жена, тетя Валя, однажды мне сказала: «Тусенька, Вы знаете, дядя Сережа Вас очень любит». Я чувствовала это с самого детства. Письма его ко мне всегда были добрые, он часто посылал мне детские книжки, открытки. А однажды он прислал самодельную книжку со своими собственными стихами, иллюстрированную его рисунками. Она была сделана из ватманской бумаги. Рисунки были очень яркие, занятные. Называлась она «Дед и птицы». Кое-что из этой истории я помню:
Ночью прилетели птицы.
Утром дед суетится, злится:
« Ненавижу птиц давно,
Перья всякие, ……..»
Здесь был нарисован смешной деревенский дед с лысиной и растрепанной бородой. Он с коромыслом в руках мчался за какой - то птицей.
Но как рада птичкам внучка.
Рад был птицам песик Жучка.
Пес гонял прилетных птиц,
Перья рвал из ягодиц.
Все шумели и галдели,
Деду страшно надоели.
Поднимая шум и гам,
Расселились по местам.
Птицы были нарисованы всякие разные: от обычных до экзотических.
Птица гага есть морская –
В лужу села у сарая.
Перелетная ворона поселилась у загона.
Воробей же, старожил,
Там остался, где и жил.
Летом на дедов огород напали вредители: жучки, червячки, бабочки. Птицы, конечно, спасли огород, поев всех вредителей. И отношение деда к птицам переменилось:
Дед, привыкнув вскоре к птицам,
Перестал даже сердиться.
Чинно сидя за чайком,
Слушал пенье вечерком.
В яркой синей рубахе дед сидел за столом на веранде. На столе стоял пузатый самовар, красные с белыми горохами чайник и чашка. Дед держал блюдце на растопыренных пальцах и умиротворенно «швыркал» чай. А кругом, на крыше, на деревьях и проводах сидели разные птицы и пели. Как и положено, в истории был счастливый конец.
В моем детстве был такой случай. Как-то (это было вскоре после войны) мама позвала меня и сказала, что нам надо серьезно поговорить. Присутствовавшая при этом бабушка попыталась предупредить: «Наташа, прошу тебя, не надо». Но мама все-таки начала разговор. Она сказала, что дядя Сережа просит ее согласия на удочерение меня. К тому времени было ясно, что своих детей у них с женой не будет. Мама спросила, как я к этому отношусь, и добавила, что в Москве жить мне будет лучше, чем в Иркутске (надо сказать, жили мы тогда очень трудно). Я хорошо помню, что я даже не успела прореагировать на это предложение умом. В моей душе мгновенно вспыхнул яростный протест. Смысл его я сейчас могу только приблизительно выразить словами: «Меня!? От мамы и бабушки!? Отдать!? И они могут!?» Я только выкрикнула маме: «Еще чего!» Бабушка удовлетворенно кивнула и ушла. Вслед за ней ушла и я. Никто никогда больше не возвращался к этой теме. Но я иногда с обидой и страхом думала: «Неужели она смогла бы отдать меня?» Потом я себя убедила, что мама задала мне свой вопрос, чтобы удостовериться, как я люблю ее. Это меня успокоило. Бабушка все-таки меня знала и понимала лучше.
Дядя Сережа, в отличие от своих сестер, был убежденным антикоммунистом. Он всегда отрицательно относился к партии, критиковал дела правительства. Я как-то спросила его: «Дядя Сережа, Вы все критикуете в нашей стране. А есть, по-вашему, у нас что-нибудь хорошее?» Он ответил: «Да, у нас лучшая в мире армия». Это было еще во времена Жукова, и тогда это было так.
Когда мы приезжали к дяде Сереже с Лялякой, у них почти всегда возникали яростные споры о политике, после которых дядя Сережа нередко пил сердечные капли. Я помню, тетя Валя просила: «Асенька, пожалуйста, не говорите с Сереженькой о политике, это ему очень вредно». А мне она сказала как-то: «У этих коммунистов как-будто разрезали череп и вложили в голову какие-то особенные мозги. Они обо всем думают не так, как остальные люди». Это было в 60-х годах, и в Москве у многих была большая нелюбовь к коммунистам. У нас в Иркутске я этого не чувствовала.
Дядя Сережа несколько раз приезжал в Иркутск, чтобы работать «на натуре». Он уезжал на Байкал, по Кругобайкалке.
Однажды, году в 50 – м примерно, он приехал со своим московским приятелем Алексеем Ивановичем Писаревым, тоже художником. Мы жили бедно, в доме не было постельного белья, даже посуды в достаточном количестве. Но мама с бабушкой постарались угостить москвичей сибирскими кушаниями. На базаре продавался в те годы в огромном количестве омуль, разнообразный. И к обеду гостям каждый день подавали разный омуль. Алексей Иванович даже удивился: «А что у вас омуль – основная еда?» Тогда решили угостить пельменями. В доме была одна- единственная большая кастрюля, как на грех, мама накануне красила в ней в синий цвет свою старую выцветшую юбку. Кастрюлю чистили, несколько раз кипятили. Но все равно пельмени получились с голубоватым оттенком. Но они были вкусные. Москвичи оценили гостеприимство, но и поняли нашу нищету. Поэтому, когда они через год приехали снова, то привезли с собой набор тарелок, ложек, вилок и ножей, постельное белье и огромный алюминиевый чайник. Он жив у меня и посейчас.
Дядя Сережа был женат на женщине с артистической внешностью и душой. Они встретились и полюбили друг друга в Щукинском училище, где дядя Сережа работал художником, а его будущая жена была студенткой. Дядя Сережа боготворил свою Валюшу, Валюшечку, Валюшоночка. Всю жизнь относился к ней нежно и бережно. Она успешно окончила училище, но актрисой не стала. В Москве попасть на работу в театр было непросто, а уехать от любимого мужа она не могла. Она почти всю жизнь проработала чертежницей в каком-то НИИ. Но актриса жила в ней, и она постоянно играла. Бывало, сделается грустной-грустной, закроет глаза и томно закинет голову. Дядя Сережа всегда заволнуется: «Что с тобой, Валюшечка? Ты не заболела? Может, горячего чаю?» Ляляка же объясняла это по-своему: «Она знает, что у нее красивая шея, а с запрокинутой головой она выглядит еще эффектнее». Правда, в последние десять лет жизни, после смерти дяди Сережи, тетя Валя все же вернулась к театру, но не актрисой.
Она тяжело переживала смерть мужа. И друзья, чтобы облегчить ее состояние, решили приобщить ее к творческой работе, устроив бутафором в Малый театр. Ей очень понравилась эта работа, и она проработала в театре до последних дней.
Сергей Николаевич скончался в 1975 году, кремирован, и прах захоронен в могилу брата Юрия. Мы с моим братом Владимиром ездили в Москву, я из Иркутска, а он из Кировограда, чтобы участвовать в похоронах дяди Сережи.
ДЯДЯ ВОЛОДЯ.
Я очень мало могу написать об этом моем дяде, младшем мамином брате. Я видела его и его жену Тамару Петровну в самом раннем детстве и совсем не помню этого. Сохранились фотографии, где я сижу на коленях у Тамары Петровны, Мне там год или чуть более. Владимир Николаевич родился в 1911 году. Окончил школу, затем Иркутский Горный институт, где учился со своей будущей женой, иркутянкой Тамарой Кулаго. Они вместе уехали работать на Балхаш, на горно-обогатительный комбинат. Владимир, как и его братья, прошел Отечественную войну. Вернулся на Балхаш.. После войны у него родился сын Юрий. Владимир пил. По этой причине он уехал из семьи на Джезказганский рудник, там трагически погиб в шахте. Его сын с матерью переехал Москву, так как она вышла замуж за тогдашнего министра геологии.
Мой брат Владимир, тоже геолог, был дружен с тетей Томочкой, как он ее называл, Она к нему тепло относилась. Может еще и потому, что брат похож на дядю Володю, светловолосый и сероглазый, и тоже Владимир, Я один раз вместе с ним была в семье министра в гостях. Они жили в сером правительственном доме около кинотеатра «Ударник». На меня произвели впечатление и сам дом, с богатыми магазинами на первом этаже, и квартира с мусоропроводом, особенно, большая библиотека, занимавшая целую комнату. Это было в 60-х годах. У меня с тетей Тамарой и ее сыном Юрой теплых родственных отношений как-то не получилось. Сейчас их обоих уже нет в живых. В Москве сейчас живет внук Владимира Николаевича - Дмитрий Юрьевич, но я с ним не знакома.
ДРУЗЬЯ.
У моей мамы и ее братьев и сестры был общий друг детства . Их дружба прошла через всю их жизнь. Сергей Петрович Чистяков. Мальчиком он жил по соседству с семьей Бессоновых на улице Арсенальской. Дети дали ему прозвище Дуська. Он каждый день приходил в сад к детям Бессоновых. Мама рассказывала, что их любимой игрой в детстве было гонять футбол. Но «футбол» - это не то слово. Мяча у них не было. Был высохший и надутый коровий мочевой пузырь, называвшийся «мочпуз». Вот его они и гоняли вместе с Дуськой Чистяковым. Бывало, ссорились, тогда дети между собой говорили: «Завтра Дуську в лес не возьмем». Но когда утром они выходили во двор, то Дуська уже сидел со своей торбой в телеге, в которую еще и не впрягли лошадь. Конечно, Дуська был неизменным компаньоном по поездкам в лес, которые в семье Бессоновых очень любили.
Когда Сергей Петрович был уже женат на Варваре Афанасьевне (он звал ее Вавка) и у них было две дочери, а у моих родителей тоже было двое детей, наши семьи дружили. Часто ходили друг к другу в гости. Я радовалась, когда мама говорила: «Сегодня пойдем к Маринке и Танюшке». Дочери Чистяковых были примерно моего возраста. Нам часто устраивали совместные елки. Жили Чистяковы недалеко от нас, на углу улиц Тимирязева и 5-й Красноармейской на первом этаже старого деревянного дома. Елка у них ставилась большая, на ней всегда были пряники, яблоки, мандарины, коробочки с монпансье, конфеты в золотых обертках. И можно было, найдя что-нибудь вкусное, снять с елки и лакомиться.
Сергей Петрович прошел Отечественную войну. Я помню его сразу после войны, когда он ходил еще в военной форме. Он окончил Иркутский политехнический институт и стал директором нового тогда института химического машиностроения ИркутскНИИхиммаша. Это был настоящий директор, грамотный и умный технарь, талантливый организатор. Но его подвела излишняя любовь к выпивке и молодым женщинам. Один из работников института написал на него жалобу в райком партии. Было партийное разбирательство. В результате Сергей Петрович вынужден был уехать из Иркутска в Пензу. Там он организовал новый институт такого же профиля, как в Иркутске, ПензНИИхиммаш. Пенза в результате всей этой истории выиграла, а Иркутск потерял хорошего директора.
Чистяков был некрасив, лысоватый, с большим и длинным носом и толстыми губами. Но он обладал неотразимым очарованием. Веселость, совершенно блестящее остроумие, невероятные шутки и анекдоты буквально извергались из него. Женщины его обожали. Таким я помню его до самых его последних дней. Я довольно часто встречалась с ним Москве у дяди Сережи. А в 1959 году работала под его руководством в ИркутскНИИхиммаше. Я знаю, что дядя Сережа очень любил Дуську, часто журил его, но и прощал ему недостатки. Они были настоящими друзьями.
Вторым большим другом дяди Сережи был Владимир Петрович Томиловский. Они вместе заканчивали художественную студию в Иркутске. Но уехать из Иркутска Владимир Петрович не мог из-за своей «биографии», как он сам говорил. Я точно не знаю, но вроде кто-то из его старших родственников, может быть даже он сам, был связан с Царской армией. Томиловский стал известным художником в нашем городе. Член союза художников СССР с 1937 года. В годы войны он был председателем местной творческой организации, организатором выпуска агитокон ТАСС в Иркутске.
Несмотря на то, что они жили в разных городах, дружили они с дядей Сережей всю жизнь, встречаясь при поездках то в Москве, то в Иркутске.
Особенно было замечательно, когда они собирались все вместе: Бессоновы, Чистяковы, Томиловский. Когда они встречались у нас дома, умным и интеоесным разговорам, веселью, шуткам и анекдотам не было конца, Я, помню, только и делала, что закатывалась от хохота. Помню, мы провожали дядю Сережу и Алексея Ивановича после очередного посещения Иркутска в Москву. Поезд отправлялся ночью. Но все захотели поехать на вокзал. В НИИхиммашевский ГАЗик набились: дядя Сережа, Алексей Иванович, Чистяков, Томиловский, Ляляка, мама, Ира – моя сестра, и я. Да еще шофер. Да еще вещи, мольберты. На привокзальной площади все приехавшие с хохотом стали вываливаться из машины. Народ на площади обратил на эту веселую компанию внимание. Заметив это, дядя Сережа, Чистяков и Томиловский стали обегать машину, влезать в дверцу шофера и выпрыгивать один за одним в другую дверцу. Люди, стоявшие около, с веселым ужасом считали количество приехавших на этом необъятном ГАЗике. На привокзальной площади поднялось общее веселье.
Владимир Петрович Томиловский запомнился мне светлостью и молодостью души. Высокий, худой, с красивым благородным профилем, он отпустил усы и бороду и ходил в берете и клетчатой куртке. Дядя Сережа иногда, любя, подтрунивал над этим его «художническим» видом. У Владимира Петровича был тихий голос; говоря, он часто-часто подшвыркивал носом. Меня всегда поражали его глаза яркого василькового цвета, который сохранился до его 90 лет. Уже почти в конце жизни он получил от городских властей свою мастерскую под крышей жилого дома на площади Декабристов. Мы с моим мужем бывали там по его приглашению. Там, как, наверное, у всех художников, царил ужасный беспорядок. Там я впервые увидела его «Маленького принца», трогательного, выполненного в какой-то детской манере. Он не мог не задеть душу. Меня всегда поражало, что Владимир Петрович, как ребенок, любил рисовать солнце; на многих его картинах – пылающее желтое, красное, оранжевое солнце. Такой он был солнечный и светлый художник.
Май 2005 г. – февраль 2006 г.
г.Иркутск.